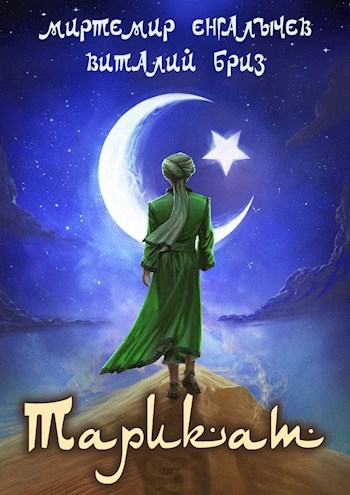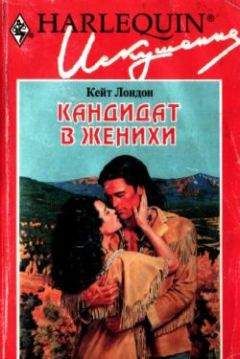пчелиный воск. И то, и другое есть в доме, вернее в кладовой. Хлопок Карим держит для всяких мелких нужд: скручивает в фитили, прикрывает раны, если кто-то из домашних порезался. Нет ничего лучше смоченного в крепком чае клочка ваты — и кровь остановит, и рану промоет. Хлопок Айгюль вплетает в свои косы, чтобы они не растрепались. А разогретым воском Сапарбиби лечит свои больные колени. И Азиз вечно его жует словно корова. Говорит, что если жевать воск, то зубы становятся белее.
Вот за всем этим я и спускаюсь вниз, и скоро возвращаюсь, осторожно неся широкую миску с низкими краями, наполненную расплавленным воском. Из него торчат десять фитилей, утяжеленных металлическими бусинками, прихваченными в той же кладовой. Эти бусинки обычно украшают сбрую лошади или верблюда, и Карим привозит их для продажи в больших количествах.
Когда воск застывает, я поджигаю фитили, и яркий дрожащий свет заливает мою комнату. Я горд своим изобретением, но какой-то еле слышный голос укоряет меня в гордыне и напоминает, что первенство всегда принадлежит Аллаху, а человек бывает только вторым.
Я хочу тут же приняться за работу и записать, наконец, все то, что помню. Разве свет был нужен не для этого? Заменяю испорченную бумагу, с удовольствием выбираю калам, и готов уже приступить к работе, как вдруг краем глаза замечаю какое-то шевеление и слышу тихое рычание. Садик проснулся и теперь стоит посреди комнаты, повернувшись ко мне задом. По выгнутой спине и вздыбившейся шерсти я понимаю, что шакал учуял что-то неприятное и даже опасное. Но дверь заперта, и за ней не раздается ни звука. Да он и не смотрит на дверь, а в темный угол, заваленный тюками.
— Садик, — спрашиваю я. — Ты что, увидел мышь?
Шакал отвечает рычанием, переходящим в вой.
— Тихо-тихо. Ты всех перебудишь.
Но он не обращает внимания на мои увещевания и все так же упорно смотрит в темноту. Тогда и я перевожу взгляд, но как ни напрягаю глаза, ничего не вижу, потому что мой импровизированный светильник слишком яркий. Замечаю лишь дымок или пар, поднимающийся над огнем. Сдвигаю миску в сторону, но дым не рассеивается, а продолжает виться рядом с тюками. И тогда я вспоминаю, что уже видел такое в Ираме, совсем недавно — и двух дней не прошло. Но в этот раз никто не заговаривает со мной, в тишине слышно только осторожное рычание Садика. Потом и он умолкает. А я вдруг, чувствуя непреодолимую усталость, опускаюсь на подушки и засыпаю тяжелым без сновидений сном.
***
На рассвете мы с Азизом и его старшим сыном Алишером собираемся отвести Ханым на пастбище к погонщикам. Алишеру восемь, и у него еще маленький брат, рождение которого стоило жизни его матери. Воспитанием мальчиков занимается пока Сапарбиби, до тех самых пор, пока Азиз вновь не задумает жениться.
Я бы никогда не стал расставаться с Ханым, хоть и на время, но, как объяснил Карим, верблюд в доме доставляет массу неудобств. Во-первых, ему нужно приносить еду, а ест он в основном янтак — верблюжью колючку. И попробуй еще ее вытянуть из земли голыми руками. Во-вторых, верблюда надо поить, а пьет он столько, что ведра воды ему не хватит, он же не Рамади, и пьет про запас. В-третьих, в доме маленькие дети, а верблюд — животное вздорное и непредсказуемое. В-четвертых, верблюд необыкновенно вонюч и нечистоплотен.
Карим мог бы перечислять еще и еще и дойти до какого-нибудь далекого «в-двадцатых», но я уже все понял. Караван-баши был прав во всем, хотя о дрянном характере Ханым я ему еще не рассказывал, но каждую минуту ждал от нее каких-нибудь фокусов. И как не жаль было с ней расставаться, согласился отправить верблюдицу на пастбище, где ей, несомненно, будет лучше. И потом, это же не навсегда.
Сапарбиби выдала нам три свертка с едой и напутствие «избегать дурных людей». Словно бы у каждого на лбу написано — дурной он или хороший. Мне стало смешно, и я еле сдержал улыбку. Моя названная мать даже не представляла себе, кого я только не встретил в своих путешествиях, и чего только не избежал. Мне самому впору охранять ее. Но трогательная забота, тем не менее, не оставила меня равнодушным, и я почтительно ей поклонился, а потом не выдержал и чмокнул сухую горячую щеку, покрытую морщинками.
— Садика с собой не бери, он распугает всех верблюдов, — предупредил Карим. — Оставь его здесь.
— Я за ним послежу, — обрадовалась Ниса. — Мы подружились.
И вправду, если шакал не находился рядом со мной, то увивался за этой девчонкой. Гонял мяч по двору или поедал лакомства, которыми она набивала его пасть. Словом, вел себя как обычная собака.
Путь на пастбище проходит по берегу реки Мургаб, питающей весь оазис Мерва. Алишер беспрестанно болтает, а Азиз весело рассказывает ему обо всем, что только попадается на глаза. Он хочет провести это время с пользой и забить голову сына разными премудростями.
— Мургаб зарождается там, где-то в горах, — рассказывает он. — Наверху большие ледники, и когда они тают, то вода прибывает к нам. И она должна быть холодной, но успевает согреться. Это странно. Но говорят, что в холодной воде рыба не водится, а здесь ее полным-полно. А еще в тугаях[1] живут олени.
— Как может кусок льда наполнить целую реку? — удивляется Алишер. — А что будет, когда весь лед растает?
— Наступит зима и нарастет новый, — беспечно отвечает Азиз.
В такую жару трудно представить и зиму, и холод. Особенно мне, никогда не видевшему снега и льда. В пустынях, где я бродил, ночами становилось очень холодно, но никакой лед от этого не появлялся.
Но Алишер уже перескакивает на другое. Он замечает бахчу с арбузами. Между пожухлыми листьями и извивающимися стеблями рядком лежат зеленые шары, по виду совсем созревшие.
— Давай возьмем один, — говорит Алишер, понизив голос. — И убежим.
Я показываю на дехканина[2], сидящего на крыльце домика:
— Он тебя догонит и побьет. Лучше на обратном пути купим у него несколько арбузов, и все будут довольны.
— Он не заметит, — настаивает Алишер. — Мы тихонько.
— Нет, — грозно отвечает Азиз, — мой сын никогда не будет вором.
— А это и не воровство.
— Не спорь! Купим на обратном пути.
— Покупать арбузы, а потом еще и тащить их? — Алишер,