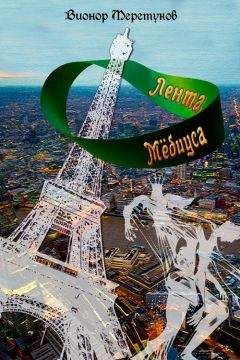— Сашенька, — перебил я, — сейчас я скажу, может быть, самую важную для меня вещь. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!
Я слышал, как она захихикала.
— Саша, ты слышишь меня? Когда это все кончится, я увезу тебя далеко-далеко…
— Правда?.. И куда же?..
— Правда, правда! А теперь, пока… Привет маме и этому… в окно впередсмотрящему… Целую…
— Я тоже…
Я положил трубку. Значит, не она. Слава Богу!.. Я вспомнил горестное видение в тумане пивной. И мне стало стыдно…
В дверях появилась Слава. Она подошла ко мне. Мы обнялись.
— Я очень… привыкла к тебе.
— И я…
Я увидел у нее в руке тоненькую тетрадь.
— Нашла на антресолях, в кухне… Она была вложена в книгу. В томик стихов Пушкина. Господи, чего там, на антресолях, только нет! Даже самовар. Кажется, он медный… Такой самовар в Париже стоит бешеных денег… Ты уж прости меня, но я заглянула в тетрадь, думала, а вдруг там любовное послание… Там твой отец… он пишет… это тебе…
— Слава! Дай мне слово, что ты отныне из дому без меня ни на шаг!
— У тебя такое лицо!.. Что случилось?
— Поклянись! — закричал я.
— Хорошо, хорошо… Успокойся. Я как твоя гражданская…
— Слава!..
— Хорошо, клянусь! Сознаюсь, мне и самой страшно. Ох, Господи, скорее бы все это кончилось! Как ты думаешь, кончится это когда-нибудь?..
— Рано или поздно… кончится, — сказал я твердо.
Я открыл тетрадь. Это было письмо отца. Начиналось оно так:
"Сыночек мой!".
Я опустился на стул. У меня защипало в глазах. Деликатная Слава отошла и тихо пристроилась на краешке стула.
"Сыночек мой! — продолжал я читать. — Я умышленно вложил это письмо в книгу со стихами А.С. Пушкина.
Я знаю, пройдет немало лет, прежде чем ты дорастешь до того момента, когда тебя потянет к этому необыкновенному поэту, который опередил не только свое, но и наше время.
Для того чтобы приблизиться к пониманию этого гениального человека, недостаточно быть студентом твоей Академии. Надо прожить подольше.
Надо пережить смерть близкого человека, познать любовь, измену, предательство, пройти путем ошибок и заблуждений, короче, я надеюсь, годам к сорока ты откроешь для себя этого поэта, потом откроешь и книгу и найдешь это письмо.
К тому времени утихнет боль утраты — ты ведь любил меня, правда? — и ты сможешь спокойно прочитать эти строки. Оговорюсь сразу, это письмо не свод нравоучений, которыми любят снабжать своих потомков благопристойные и благодетельные родители.
Скажу честно, я не был ни тем, ни другим. И я далек от мысли тебя поучать. Ты знаешь, это было не в моих правилах. Последние годы я был очень одинок. Ваша мама давно умерла… Вы же с братом отдалились не только друг от друга — что меня всегда сильно огорчало, но и от меня.
Возможно, вы по причинам, свойственным эгоистичной молодости, не замечали, как мне одиноко, но мне было от этого не легче. И я страдал. И страдал, как ты, наверно, помнишь, вас в этом никак не укоряя. Но я не об этом.
Это письмо не исповедь, хотя, если ты наберешься терпения и дочитаешь его до конца, то, скорее всего, найдешь все-таки в нем и исповедальные нотки…
Моя сознательная жизнь пришлась на то время, когда официальная идеология отрицала Бога.
Я уверен, что к смерти нужно подходить подготовленным. Не спрашивай меня, откуда я взял, что умру через несколько дней. Я оставляю за собой право унести эту тайну в могилу…
Считай, что я просто знаю это, и все. Не скажу, что знание достаточно точной даты своей смерти так уж сильно вдохновляет меня. Но мысли, которые в этой связи возникают в моей голове, призывают меня признаться тебе, что сейчас, когда мне до смерти, можно сказать, рукой подать, я не готов к ней!
Я пребываю в растерянности. Я не знаю, что мне делать. Начинать срочно верить в Бога? Не получится: слишком поздно. Не успею приучить себя к мыслям о загробной жизни. Хотя так и тянет в это поверить.
С тех пор как мне стал известен почти точный день моей смерти (хотел написать "кончины", но это слово мне кажется еще более мерзким), весь мир вокруг меня уже существует как бы сам по себе. Непреодолимая стена уже встала между мной и внешним миром.
О смерти всегда думать тяжело. Даже в молодости, когда она вообще представляется нереальной. И не верь тем, кто утверждает, что не боится смерти. Это либо дураки, либо лжецы.
Итак, Господь, увы, отпадает… Это такая жалость, что… Согласись, насколько легче было бы умирать, если бы я с детства знал, что после смерти весь я не умру, и душа моя, покинув одно тело, переберется на другое?..
В то же время, так вышло, что мне, в силу определенных обстоятельств, не раз доводилось присутствовать при последних минутах умирающих, которые веровали в Бога — а значит, и в загробную жизнь. И я видел, что они расставались с земной жизнью столь же неохотно, как и их безбожные коллеги по несчастью.
Так что, мое положение безнадежно.
Андрей! Ты много пьешь. Это меня удручает. Хотя с другой стороны, я всю жизнь был почти трезвенником, и что? Моя жизнь не сложилась, как может не сложиться и у тебя, независимо от того — будешь ты пьянствовать или нет.
Странные слова в устах любящего отца, не правда ли? Из этих слов ты поймешь, что твой отец всегда был человеком свободных — даже, возможно, слишком свободных, — взглядов, но мне приходилось это тщательно скрывать. И это касается многого другого. Такое было время…
По этой же причине я вынужден был воспитывать вас с братом так, чтобы вы приучились поменьше задавать вопросов. К счастью, кажется, мне это не удалось, и вы росли чрезвычайно пытливыми мальчиками, да и время, слава Богу, изменилось.
Ты знаешь, я сорок лет проработал в органах. Не знаю, стоит ли тебе стыдиться такого отца… Но, даю тебе честное слово, ты нигде не найдешь моей подписи, за которую пришлось бы краснеть порядочному человеку.
Да, моей подписи нет… Ты вправе спросить, как это стало возможным? Оказывается, возможно, сыночек мой… И тем не менее… Я служил режиму, сущность которого понял очень давно…
Я ненавидел не только Сталина, но и всё, что было связано с идеей коммунизма. Ты спросишь, тогда почему ты, отец?.. Как ты мог?.. Как ты связал себя с преступниками? То-то и оно, что далеко не все были преступниками… Да и понял я это не сразу… И потом. У меня была семья… У меня были сыновья, которых я любил и люблю… Понимаю, это не очень сильное оправдание в глазах тех, кто живет в другое время и у кого нет детей…
У меня есть ряд нелицеприятных вопросов к Создателю, если предположить, что Он существует.
Почему Он, создавая человека, не сделал его бессмертным?
Почему Господь обрек людей на не знающие конца страдания, в сравнении с которыми муки распятого Иисуса, приколоченного ржавыми гвоздями к деревянному кресту, представляются едва ли не развлечением, вроде игры в городки?
Если Господь обессмертил человеческую душу, вкладывая ее в без конца тиражируемую оболочку, в плоть, изъедаемую в течении жизни болезнями и физическими страданиями, то чем объяснит Он эту свою жестокость, если при этом Библия лицемерно говорит о Его бесконечном милосердии?
А ведь люди страдают от рождения…
Ссылки на то, что испытаниями Он закаляет человека, представляются мне со стороны воображаемых оппонентов совершенно неубедительными.
Почему бы Богу, вместо того чтобы коварно и садистски мучить человека обещаниями о сладком вечном загробном времяпрепровождении, не осыпать его благодеяниями в виде блаженства и райского наслаждения еще при его земной жизни?
Впрочем, если моя душа бессмертна, и она скоро окажется либо в раю, либо в аду, поверь, я найду способ с тобой связаться и рассказать тебе, что здесь и как. Недаром я сорок лет проработал на Лубянке. Вообще-то ужас мой перед лицом смерти словами не передать… Язык мой беден. Эта тема словами не передается. Может быть, музыкой?.. Вроде колыбельной?..
Только заглянув в холодные, бесстрастные глубины, понимаешь, что такое животный страх перед неизбежным исчезновением… Перед небытием.
У Льва Толстого есть интересная мысль, лишний раз подтверждающая, что все гениальное просто: "Умрешь — все кончится. Умрешь и всё узнаешь — или перестанешь спрашивать". А еще говорят, что у классика полностью отсутствовало чувство юмора!