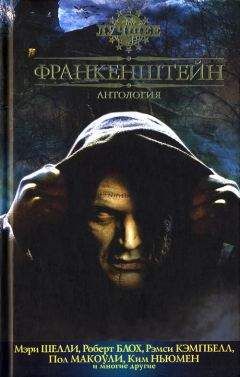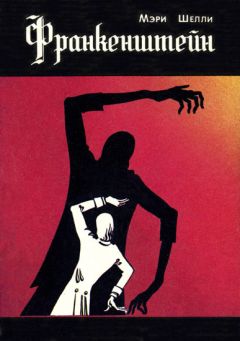Минуту Брайан, содрогаясь, стоял над трупом зверя, а потом какой-то звук заставил его поднять взгляд.
Барон, сверкая глазами, двигался прямо на него. Он где-то раздобыл шпагу. И преобразился. Пропало безумие во взгляде, и Брайан снова видел перед собой холодного, сдержанного человека, безупречно владеющего собой. На его бледных губах играла легкая улыбка, а лицо вновь застыло маской.
Остановившись перед Брайаном, барон отсалютовал шпагой:
— Ну что ж, мой юный друг. Вы разрушили мой дом и погубили мое лучшее творение. Разве не так? За это придется платить, hein?[31]
Он испытал шпагу, взмахнув ею как хлыстом и со свистом разрезав воздух. Брайан узнал движение опытного фехтовальщика. Барон улыбнулся:
— Заметили, что мне приходилось держать оружие в руках, молодой Herr? Я был лучшим фехтовальщиком в Инголштадте, а может быть, и во всей Швейцарии. Надеюсь, вы хоть немного владеете шпагой, потому что я хотел бы поиграть с вами, прежде чем убить… Schweinhund!
Барон внезапно бросился на Брайана, серебристый клинок блеснул и ударил. Брайан, которому почти не приходилось фехтовать, кое-как отбивал удары своей ржавой саблей. Скрежет металла о металл сопровождался хриплыми вздохами противников.
Брайан едва успел уйти в сторону от выпада, и клинок прошел у него под мышкой, чудом не проткнув грудь.
Клинок барона блистал молнией, вынуждая Брайана приплясывать и изгибаться. Молодой врач не сомневался, что барон мог бы уложить его в любое время. Он, как и предупреждал, просто забавлялся, оттесняя его все дальше и дальше к… — отчаянный взгляд через плечо показал Брайану, что ему грозит, — …к отверстию пещеры, к четырехсотфутовому обрыву над морем.
Франкенштейн отметил его испуг довольной улыбкой.
Брайан сделал безнадежную попытку перейти в наступление, взмахнув саблей.
Клинок блеснул в руке барона, и Брайан с ужасом ощутил, как рукоять вывернулась у него из пальцев и оружие со свистом отлетело в сторону.
Острие шпаги угрожающе замерло у него перед глазами.
— Увы, мой юный друг, не ждите coup de grace.[32] Выход в лучший мир у вас за спиной.
Брайан услышал крик очнувшейся Элен, хотел повернуться к ней, но оступился и упал. Его тело наполовину свесилось из устья пещеры. Казалось, прошла вечность с тех пор, как он лежал здесь, а баронесса отважно прикрывала его бегство. Вечность, хотя стрелки отмерили всего несколько часов.
Барон поднял шпагу.
— Итак… — начал он, занося ногу, чтобы ударить по пальцам Брайана, отчаянно цеплявшегося за край.
Дверь погреба с грохотом распахнулась, и ступени залила толпа жителей деревни. Многие были вооружены пиками, серпами и горящими факелами.
— Бейте монстра!
— Вот он!
— Бей зверя!
— Жги его!
Барон гневно обернулся на яростный гомон.
— Так, — только и сказал он.
Брайан почувствовал, что руки его слабеют. Он взглянул на барона. Тот выронил шпагу и спокойно шагнул мимо Брайана в пустоту.
Удара тела о камни он не услышал. Все его силы ушли на то, чтобы самому удержаться от падения. Впрочем, скоро дружеские руки подхватили его.
Люди вынесли его из пещеры, где другие громили и разбивали оборудование, ящики и инструменты. Кто-то поджег обломки факелом, и пламя жадно взметнулось вверх по стенам.
На лужайке перед домом Брайан нашел Элен и долго сжимал ее в объятиях под одобрительным взглядом Тревитика.
Внезапно раздался раскатистый грохот.
— Крыша провалилась в погреб, — пояснил Тревитик.
Брайан с Элен развернулись и направились назад в деревню.
Густой черный дым затмевал восход, поднимался столбом над мерзкой лабораторией Франкенштейна.
Стояло свежее осеннее утро. «Бодминский скороход» совершал еженедельный рейс от Босбрадо до Самелфорца и оттуда через пустоши к Бодмину. Карета была полна. Шесть пассажиров первого класса разместились внутри, а еще пятеро, кому по карману оказался только второй класс, сидели наверху вместе с кучером.
Возница, завернувшийся в плащ в утренней прохладе, то и дело пощелкивал кнутом, подгоняя бежавших ровной рысцой лошадок. Дорога шла через пустоши, далеко в стороне живописно поднимались над горизонтом Бурый Вилли и Грубый Тор, притворявшиеся скалистыми горами при своих тринадцати сотнях футов.
Осенние болота и пустоши были прекрасны. Бахрома листвы на деревьях окрасилась желтым, коричневым и багровым, цветы шиповника уже опали. Несколько кустов ежевики с поздними ягодами, цеплявшиеся за каменистые откосы, добавляли красок яркой картине. Над буро-зелеными пустошами болот, разбитыми грубыми выходами гранита, резко выделялись листья и кусты. Здесь и там блестела сетка ручьев, наполнившихся по осени и бодро журчавших и бурливших на пути к большим руслам. В покачивавшейся на ухабах карете мисс Элен Треваскис и доктор Брайан Шоу радостно улыбались друг другу. Они не замечали неодобрительных взглядов других пассажиров: толстого адвоката, направлявшегося на осеннюю сессию в Бодмине, пожилого пастора с чопорной остроносой женой и сельского сквайра в охотничьих сапогах, упорно отравлявшего атмосферу своей трубкой.
Брайан наклонился к девушке и взял ее за руку.
— Ты уверена в своем решении? — спросил он с беспокойством.
Элен накрыла его ладонь своей и улыбнулась вместо ответа. Улыбка сказала ему все, что он хотел знать, и счастливый молодой врач с облегчением откинулся назад.
— Теперь все будет хорошо, Элен, поверь мне. К концу недели мы доберемся до Лондона, и меня наверняка примут на работу в госпиталь. Мы сможем пожениться и…
Элен радостно кивала.
— Все будет хорошо.
— Но что… — она запнулась, — с ним? С бароном? Почему не нашли тела?
— Я бы не стал об этом тревожиться, Элен, — уверенно ответил Брайан. — Барон мертв. Я сам видел, как он шагнул в бездну. От устья пещеры до прибрежных скал четыреста футов. То, что осталось от тела, смыло волнами. Вспомни, как долго мы искали тела баронессы и бедного Гуго.
Элен задумчиво кивнула:
— После твоего рассказа я очень жалею баронессу и Гуго. Подумай, сколько мучений они пережили. Как мог барон быть настолько бесчеловечен?
Брайан покачал головой:
— Он, конечно, был сумасшедшим. Если человек воображает себя Богом, он перестает быть человеком. Но теперь все кончилось. Мы больше никогда не услышим о Франкенштейне.
Элен сжала его руку:
— Да, и у нас так много впереди.
Пятеро пассажиров на крыше кареты устроились с меньшим комфортом, нежели их попутчики внизу. Их подбрасывало в ритм движению, и они цеплялись за что попало, чтобы не вывалиться на дорогу.