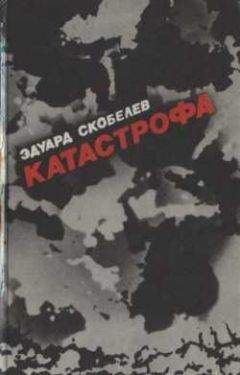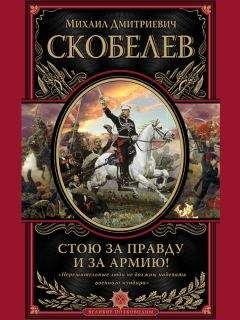Когда я разговаривал с Око-Омо, стоя подле него, я машинально почесывал свою голову и извлекал из кожи какие-то стерженьки.
И только ударившись о камни и увидев фигуры в белых балахонах, я догадался, что кто-то давно манипулировал моим сознанием с помощью электродов, получавших команды от радиопередатчика…
Все свои догадки освобожденный мозг совместил и освоил за доли секунды: едва завидев белые балахоны, я уже знал, что они имели непосредственное отношение к катастрофе и электродам, извлеченным мною из кожи головы. И еще знал, холодея от страха, что никакой я не пророк, а безвольное орудие чужого, преступного расчета и моей роли, как и мне самому, наступил конец.
Я смирился со смертью. Перед неизбежной кончиной все смиряются, и, может, смирение и вызывает прекращение жизнедеятельности. Я не понимал, отчего непременно должен умереть. Но это меня и не интересовало, — я должен был умереть хотя бы для того, чтобы освободиться от ужаса…
Белые фигуры приближались. Одна из них взмахнула рукой — изрыгнулась молния, прямая, как солнечный луч, и тонкая, как бельевой шнур. Может быть, это был импульс лазерного луча большой мощности. Будто сквозь сон я услыхал треск и падение обвалившихся кусков камня. И еще голос: «Это уже падаль, экономь заряды!..»
Возможно, я был уже мертв. И если я был мертв, знайте, кто еще жив, что мертвый какое-то время сохраняет связь с миром, эта связь не рвется мгновенно, если цел мозг…
Я был мертв — точно. Но я расслышал истошный крик: «О-ко-мо-о!..» И вслед за тем вновь раздался треск и грохот падающего камня.
Кажется, тип в белом балахоне, который констатировал мою смерть, был не кто иной как Сэлмон…
Предчувствовал, что за эти минуты совершится непоправимое. Я не хотел уходить вдвоем, хотел, чтобы мой напарник кликнул ребят из дыры, где мы уже три недели молотили киркой и все пока без особого толку.
Зачем я послушался Око-Омо? Ведь я не доверял Фромму. Люди, какие слишком много рассуждают о правде, слишком в ней сомневаются. Чаще всего надо действовать без рассуждений, потому что рассуждать некогда. Да и вся прошедшая жизнь — разве не рассуждения? Разве человек не может тотчас сказать, что для него правда, а что ложь, что честь, а что бесчестье? Да жил ли он прежде, коли не может?..
Если исходить из того, что ты виноват, во всем найдешь свою вину. Но если считать, что ты прав, повсюду будешь выгораживать себя и выгородишь: на словах можно доказать все, что угодно. Поэтому нельзя полагаться только на слова. Да и не время. Иные люди не пожелали остаться людьми. Когда легко, все герои. А когда трудно, не каждый себе докажет. Ведь доказывая всем, доказывают прежде всего себе. Ничье мнение о себе нельзя ставить выше собственного — какой же ты тогда человек?..
Что ж это я? Распустил нюни, получив три-четыре пробоины…
Не встать. Вот чуть напрягся, и уходит сознание… И — ни единого патрона, чтобы подать сигнал…
И все же повезло…
Этого только не хватало — слезы? Чего ты плачешь, Игнасио? Разве слезами кто-либо оживил убитого?..
Пока жива коммуна, Око-Омо живет в нас. И хватит с тебя крови, Игнасио, слезы — слабость. То, что ты всегда презирал в себе…
Пока ты жив, ты хозяин жизни. Нельзя уступать, нельзя сдаваться…
Фромм сразу вызвал во мне подозрения, хотя и живой-то он был наполовину. А в убежище, надо полагать, хватало воды и пищи…
Протиснувшись в пещеру, я окликнул Око-Омо. Он не ответил. Я кинулся к нему ближней дорогой — через завал. Это спасло меня, потому что враги караулили возле тропы.
Око-Омо был убит. В отчаянии я закричал, но отчаяние сменилось яростью, едва я понял, что враг не ушел: в метре от меня ударил разряд молнии — она сверкнула от камня возле выхода из пещеры. Я выключил фонарь и упал ничком.
Они сожгли место, где я стоял. Они прекрасно видели в сумраке, и их оружие превосходило мое. Но я не уступил бы им, если бы даже был вовсе безоружным. Нужно было отомстить за смерть Око-Омо — это я знал твердо, а остальное не имело значения.
«Фромм привел бандитов!» Так я подумал, соображая, что мне делать. И тут над камнями возник скелет. Он помахал плетьми длинных рук и исчез. Враг рассчитывал на расшатанные нервы. «Игнасио, ты слишком уже стар, чтобы бояться привидений». И я отполз в такое местечко, до которого было не добраться сверху. Тропинка среди гранитных глыб, которой поневоле должны были воспользоваться враги, чуть-чуть подсвечивалась отблесками рассеянного луча. Туда я и вглядывался, стараясь не слишком напрягать зрение, чтобы не вызвать галлюцинаций.
Пока в небе светит солнце, даже умирая, человек не должен отчаиваться. И главное — не терпеть насилия, не давать спуску насильникам. Око-Омо называл это «главным уроком»…
Я был спокоен, меня не заботило, сколько их там, врагов. Чем больше, тем лучше, потому что нельзя было допустить прежнего террора.
Тень, едва заметная, мелькнула на тропинке. Понятно, я не упустил своей доли секунды — выстрелил и тотчас же укрылся за выступ скалы.
Скала вздрогнула, раздался взрыв, и пламя сверкнуло, но я уцелел. Только меня немного присыпало. Тяжелый и острый обломок поранил плечо. Глаза закрывались от боли, но я им не позволил…
Сменил позицию: отполз в дальний угол каменного мешка. Отсюда бежать было некуда и прятаться было негде. Я оперся о камень и ожидал атаки.
Хрип услыхал я и стоны. «Значит, не промахнулся», — сказал я себе. Жизнь оправдана, если честный человек убивает хотя бы одного негодяя. Это тоже «урок»…
Свет вспыхнул на миг в пещере. Излучение настолько ослепило, что я не приметил, откуда оно исходило… Меня не увидели. Чтобы увидеть меня, нужно было приблизиться ко мне…
Свет погас, и я понял, что враг не уйдет, не посчитавшись. Это меня устраивало.
Нужно было немедля перебраться на другое место. Но — не было сил. Впервые я подумал о том, что износился. Прежде я выдерживал штуки и посерьезней. Теперь же валился кулем, едва отрывал спину от подпорки.
Пещера вновь наполнилась шипением и ослепительным светом. Как бабочка, пришпиленная иголкой к фанерке, я сидел беззащитно, все же успев разглядеть, что струя еще более яркого света перерезала пополам человека, лежавшего ниц в нескольких метрах от меня. Приучая глаза к темноте, я догадался, что убитый — Фромм и что Фромм и мои враги — разные фирмы. Если, конечно, Фромма не разделали по ошибке.
И тут уже я рассудил вполне здраво. Если в тот раз заметили Фромма, то, конечно, теперь заметили и меня. Пренебрегая болью, я пополз навстречу врагам. В какой-то благословенный миг, затаившись, я услыхал, что кто-то крадется по ту сторону невысокого камня, — сопение, шорох одежды. «Ну, вот, сейчас мы и посчитаемся». Я боялся пошевелиться. Автомат был в неудобном для стрельбы положении, но вспугнуть врага — значило потерять последний шанс.