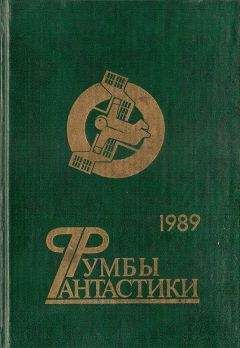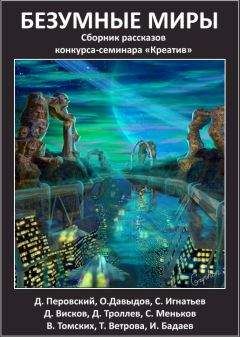Загляделась на него деревня! Напрочь выпало изо всех умов, на кого смотрелыщики собрались тут попялиться. Хватились, когда сани уже мимо пролетели.
Двор деда Урмана был не так уж и далек. Возле него и нагнали зевороты возок. Нагнали и остопились. Остопились и подивились. Подивились тому, как новоприезжий перемогал недолгую тропу, что вела от саней до крыльца. Наталья, можно сказать, жениха своего на руках до избы доставила. Там ввела она болезного в тепло и дверь за собою затворила очень плотно.
Разудалый ямщик, поникший на своем облучке, надсадно при этом крякнул и сказал дрогнувшим голосом:
— Господи! Отними от меня половину, пошли этому золотому человеку…
Да только, видать, душевные ямщиковы слова до бога дойти не поторопились. Только и успели Наталья с Назаром, что повенчаться на Рождество. А там венчаный взялся быстро чернеть и загибаться к земле, точно догорающая лучинка. Густая, еще по приезде, борода его до первой весенней капели исклочковалась вконец, а глазищи, сухие от нутряного жару, подернулись пеплом…
В частых меж собою разговорах деревенские бабенки старались даже не поминать о Назаре, жалели одну только Наталью:
— Ах ты, кака невезуха-молодуха. Подумать только! Об ней, видать, сказано — не родись красивой…
— Хотя бы дитенка успела завесть на утеху. Так ведь и приплоду господь ей не послал.
— Чо ж тут поделаешь: злосчастному Фоме омут и в копне…
Всю долгую зимушку дед Урман в деревню не заявлялся. Лишь только на сороки2 заскрипел уже щербатый снег под его широкими лыжами. Распряг Урман ноги у самого крыльца, вошел в избу и застал под крышею своей чистоприбранной халупы всем нам уже известную печаль. Вечером дед помылся в бане, поужинал с Натальей, посидел возле больного молчком, а потом и заговорил:
— Вот что, красота ты моя ненаглядная, — сказал он невезухе. — Имеется в тайге нашей такое место хитрое, которое Глухою падью зовется. Коренной тутошний житель его за семь верст обходит. Сказывает он, что нечистая сила там водится. Бортовал я недалечь от той пади. Не один год бортовал. И вот я приметил: со всей лесной округи хворое зверье собирается туда ненастье свое жизненное избывать. Заворачивал и я в Глухую падь, приглядывался: какая такая страсть в провале кроется, что люди его боятся? Чего нетрудно там отметить — земля сплошь взята рытвинами да ямами. Будто бы она какой-то страшной оспою изболелась. Однако же сосна по всей Глухой пади стоит крепкая. И что гриб там, что цветок прямо тройной величины. Не поверишь: лапоток в ней Венерин с мою пригоршню будет. Воздух же там в безветрии, настоян такой живительной силою, что человеком себя сознаешь не в один сегодняшний день, а на тыщу лет вперед! Может, и зверье точно так же чует в Глухой пади свою неизбывность, потому-то оно и здоровеет прямо на глазах? Но это говорю я о волках-оленях. Что до людей — не видал я ни одного такого храбреца, который пожелал бы в Глухой пади хотя бы одну ночь перебыть. Похоже, что и в самом деле не принимает эта логовина человека. Наткнулся я там на один его след. Пытался кто-то под ярком заимку себе соорудить. Избенку срубил, сараюшку, навес даже прилепил для запасу дров. Однако бросил затею. Не по-жилось. Так что советовать впрямую, переселяться тебе туда с Назаром или отпустить его из жизни, не стану. Дело твое. Мало ли какая собака в Глухой пади зарыта. А вот то, что подняла бы ты там своего суженого, знаю наверняка. Так что решать тебе самой этот хитрый вопрос. Можешь походить, народ поспрашивать — что они скажут.
Походила, поспрашивала Наталья деревенский народ; рассказали ей люди, не утаивали: века с три, дескать, прошло с той поры, как в этих местах никакой Глухой пади и в помине не было. А дышала вокруг ровнехонькая тайга. Да только вдруг загудели будто бы небеса нестерпимым гудом. Во весь простор взялись они сплошным огнем. Дрогнула и пошатнулась земля. И люди и звери в едином стаде ломанулись через моховины да рямники — животы спасать. А когда напасть поутихла, рискнули воротиться обратно. Воротились и увидали среди прежней тайги огромную впадину. Со временем же к выводу пришли, что это никто иной, как черт устроил себе гнездовину. А того позже гнездовина-выемка была названа Глухой падью.
— И вот уж как триста лет сравнялось — никому туда не являлось, — докладывали бабенки Наталье. — И еще того более пройдет — никто туда не пойдет, — уверяли они испуганными голосами.
— Ить по той по Глухой пади когда-никогда, а сам земляной дедушка бродил, да и тот, знать, к чертям угодил, — постаралась подлить к настою давнего страха добавочной крепости бабка Шуматоха.
Старица эта, занавешенная черным платком до самых глаз, никогда толком нигде не жила. Весь век свой паслась она по чужим дворам и всяк знавал ее бабкою, словно молодой она никогда и не была. А ведь помнили ее даже те, которые нынче помирать собрались. Во все годы была она такою же метровенькой, носохрюклой да языкатой черницею. Языката же была Шуматоха до той степени, что селянам приходилось уверять друг дружку: ежели, мол, вытянуть ее жало во всю длину, оно окажется куда как доле ее серпом согнутого тела.
Вот с этим языкатым жалом и прилипла к серьезному разговору бабка Шуматоха. Ровно бы ее сюда черти покликали. При виде старицы говорухи все разом о домашних делах вспомнили — отправились свои заботы разгребать. Глядя на них, и Наталья домой поспешила. Ровно бы и не услыхала она Шуматохиного заверенья. Но когда оказалась в избе, спросила Урмана:
— А кто такой земляной дедушка?
— Э-э. Вона! — заключил Урман. — Бабка Шуматоха объявилась опять. Это она навякала. Наши-то бабенки об том дедушке уже и думать позабыли. А Шуматоха бог знает каким временем живет. Однако и я слыхивал от прежних людей, что живал в нашей стороне такой дедушка. Ведуном слыл. Ходил он, якобы, бродил по таежным угодьям; выбирал по своим колдовским приметам из обычного наносного кругляша камни с какой-то особиной. Для чего? А вот для чего. В простую пору был земляной дедушка человек человеком. Когда же наступал его так и не угаданный людьми час, убредал он тайно в Глухую падь и ловким кротом зарывался там в глубь земную. Был ли у него налажен под землею постоянный какой приют, или всякий раз сооружал он для себя новое какое вместилище, никто ответить на такую загадку не мог. Но стоило ведуну устроиться в берлоге своей поудобнее, как приступал он там разводить огонь. Вся Глухая падь наполнялась тогда угаром таким, в который не то что человек, зверь не совался, птица летела прочь. Поговаривали знающие, что земляной дедушка все намеревался из набранных окатышей выплавить для какой-то колдовской своей нужды каменную кровь! Да только был ли камень не подходящ, работа ли была ведуном налажена не тем порядком, а выпекались у него из камней вовсе ненужные колдуну самоцветы. И хотя, по людским-то меркам, не было тем самоцветам цены, земляной дедушка в продажу их не пускал. Хоронил он этакое богатство опять же в недрах земных да еще и завет на них накладывал. Пущай, дескать, дадутся камешки его рукам человечьим тогда, когда люди поумнеют настолько, что лишь радость от найденного обретут, а не пустят его во вред и себе и другим. Но порою дедушка земляной из правила своего делал исключение. То есть, одаривал радостью нежданной человека достойного. И не было его подарка надежнее и благодатнее. Ну, а потом? Потом вроде бы напасть на земляного дедушку в Глухой пади случилась. Будто бы кому-то понадобилось выжить его из подземной кухни. Может, кто себе наметил заняться там столь богатой стряпнею. Может, испугался, что старому когда-никогда, а повезет все-таки добыть каменную кровь. Одним словом, чадить Глухая падь перестала. Но и земляной дедушка о себе больше никому не напоминал. Люди могли бы подумать, что помер колдун. Только охотники, которые прежде, бывало, брали спокойно по тем местам зверя, стали прибегать из Глухой пади перепуганными и клятвенно заверять, что больше сроду туда не пойдут. Но и меж собою даже не могли они определиться, что же их так сильно отпугнуло от Глухой пади…