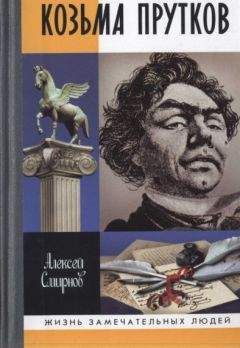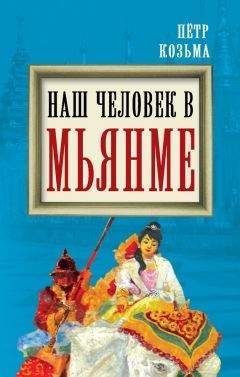– Ну? – Дылда поторопил Щелчкова. – Тебе что, непонятно сказано? Одна нога там, а другая – здесь и с деньгами. Ну-ка, ну-ка… – Он внезапно поманил его пальцем. – Это что у тебя в кармане? Почему он так оттопыривается?
– У меня? – растерялся Щелчков. – Ничего там не оттопыривается. – Он сунул руку в карман, и лицо его удивленно вытянулось. – Вот, – сказал он, вытаскивая руку наружу.
На сморщенной ладони Щелчкова лежал потерянный коробок. Тот самый, с ракетой на этикетке. В животе моем разыгралась буря. К страху и безумной тоске прибавилась обида на друга. Теперь-то мне стало ясно, куда тогда исчез коробок.
– Как раз я закурить собирался. – Дылда в грязном халате уже пристраивал свободной рукой в щель между зубов папиросу.
Щелчков оторопело разглядывал коробок. Гармонист на скамеечке у ограды с «Трех танкистов» перешел на «Тачанку». Стоявшие полукругом зрители продолжали ему подтягивать. Я их почти не видел, глаза мои застилала обида.
– Ты что, аршин проглотил? Чиркай, не тяни время. – Дылда наклонился к Щелчкову и причмокивал губами от нетерпения.
И тут что-то произошло. Краем глаза в полукруге зевак я заметил незатейливое движение. Человек в зеленой шляпе на голове оказался вдруг почему-то без шляпы. И как раз в этот самый момент, когда он оказался без шляпы, из-за облака появилось солнце. Длинный солнечный луч пронзил толщу городских испарений и, отразившись от круглой лысины человека, ударил нам по глазам. Дылда от неожиданности зажмурился и выпустил из руки мою пуговицу. Почувствовав, что меня не держат, я, не разбирая дороги, что есть силы заработал ногами. Где-то у меня за спиной фальшивила и надрывалась гармонь – все тише, тише и тише, и скоро замолчала совсем.
Глава девятая. Следы ведут на чердак
– Ну нету у меня коробка, потерял. Честное слово, нету! И взялся он откуда, не знаю.
Весь красный от обиды и возмущения, Щелчков ёрзал, бил себя по карманам и крутил на голове волосы.
Сначала я Щелчкову не верил. Потом вспомнил случай со мной, когда, сунув руку в карман, я так же неожиданно, как и он, обнаружил у себя коробок и так же, странным образом, потерял. И постепенно ему поверил. Правда, перед тем, как поверить, я тщательно осмотрел его комнату, особенно те места, где он прятал от родителей свой дневник с двойками. И, конечно, проверил щелчковский альбом с наклейками, не появилась ли в нем пропавшая этикетка. Так что ссора наша была недолгой и кончилась, как и положено, миром.
Мы сидели у меня в комнате и лениво передвигали шашки. На улицу идти не хотелось, там хозяйничал мелкий дождь. Мои родители ушли в кино на «Бродягу» и придти обещали поздно. Словом, вечер был в моем полном распоряжении, но делать ничего не хотелось. Ни читать, ни сражаться в шашки, ни разглядывать коллекцию этикеток. Щелчков тоже был рассеянный и побитый, наверное, после инцидента на рынке.
Часов в восемь в дверь поскреблись. Я уныло сказал: «Войдите», – и Василий, наш коммунальный кот, просунул в дверь свою усатую морду. Увидев наши постные лица, он вошел и недоуменно мявкнул. В хитрых его глазах вспыхнули зеленые огоньки.
Ребята, говорили глаза, что-то я вас не понимаю, ребята. Столько вокруг всего интересного, а вы сидите, как в парке пенсионеры, и дуетесь в свои дурацкие шашки.
– Так ведь дождь на улице, и вообще… – ответил я на котячий взгляд.
Василий помотал головой: тоже, мол, нашли оправдание. Я в свои молодые годы, дождь не дождь, метель не метель, всё успевал облазить – чердаки, подвалы, всё-всё. Ах, какие были раньше подвалы! А чердаки: чудо – не чердаки! Чего только на них не было! И голуби, и летучие мыши, про обычных даже не говорю, столько ее раньше водилось, этой мышиной братии. Протянешь, бывало, лапу, а они в нее так и лезут, словно ты их мышиный царь. Попугаи иногда залетали, тоже интересная птица. Некоторые говорили по-человечьи. Помню, один сидит, весь важный, на бельевой веревке, глаза на меня вылупил и кричит. «Не р-рыпайтесь, – кричит, – дур-раки!» «В р-рупор-р, – кричит, – кр-ричите!» «Р-реп-петир-руйте, – кричит, – р-реп-петир-руйте!» А после прыг с веревки на мою голову да как в ухо мне заорёт: «Р-руками, – орёт, – не тр-рогать!» Помолчит, а потом в другое: «Р-раки, р-родина, кор-робок!»
– Как? – спросили мы со Щелчковым одновременно. Шашки были в момент забыты. Мы взволнованно уставились на кота.
– Какой коробок? – Это уже спрашивал я один, без Щелчкова.
Не знаю, молча ответил кот. Это же когда было, в мои молодые годы. Да и мало ли что попугай наврёт. С него, попугая, станется. У меня к этой глупой птице с роду никакого доверия.
– А чей он был, тот попугай, не знаешь? И что было с тем попугаем после? – спросил у кота Щелчков.
Известно что! Съели мы того попугая. Я и Мурка, подруга моя. Молодые были, голодные. Вот и съели. А чей?.. – Василий задумался. – Чей, не помню, просто – залётный. Да, кольцо у него вроде на лапе было. Точно, было на правой лапе колечко. И что-то было на том колечке написано.
– Что? – спросили мы со Щелчковым хором.
Откуда ж я знаю, что. Мы ж не люди, грамоте не обучены. У нас какие университеты – крыша, чердак, помойка. Да и молодой я был тогда, несознательный, думал только, чем живот свой набить да об этом… в общем, о женском поле.
– А где оно сейчас, то колечко?
Там, должно быть, на чердаке и лежит. Если, конечно, какая-нибудь ворона с чердака не стащила. Или кто-нибудь из жильцов не прибрал, когда белье ходил снимать или вешать.
– А ты помнишь, на каком чердаке это было?
На нашем, на каком же еще. Как раз сопелкинское белье там висело. И меточки на нем: СВП. Сопелкина Вера Павловна.
– Если ты, Василий, такой безграмотный, то как же, скажи на милость, ты смог метки на белье прочитать?
Три буквы человечьего алфавита, положим, и дурак выучит. Тем более, к Вере Павловне я питаю очень скверные чувства. Вредная она, злая и некультурная. Все коты в нашем доме ее не любят…
Василий вдруг повёл ухом. В коридоре раздался скрип – то ли это половица скрипела, то ли где-нибудь приоткрыли дверь. Морда у Василия напряглась. Он глазами попросил нас молчать и осторожно подошел к двери. Втянув носом воздух из коридора, он беззвучно, по-кошачьи, чихнул. Хвост его загнулся крючком, потом вытянулся восклицательным знаком. Кот повернул к нам морду и недоуменно пошевелил усами.
– Сопелкина? – спросил я вполголоса и кивком показал на дверь.
Не понял, сказал Василий. Пахнет вроде бы и ей и не ей. До странности двусмысленный запах.
Я тоже подошел и принюхался. Но ни двусмысленности, ни странности не учуял. Запах был самый обыкновенный – пахло коммунальной квартирой. Застоявшейся в туалете водой, молью из соседского шкафа, мусором от черных дверей – тысячью разнообразных оттенков тесного городского быта.