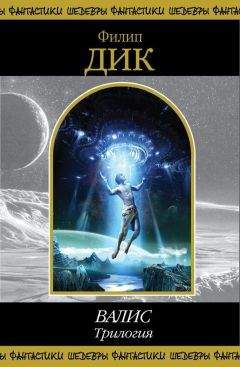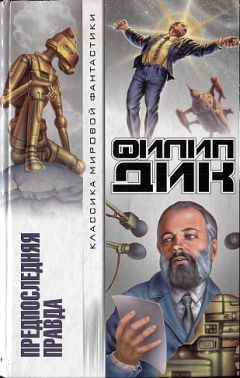Полагаю, мы все делаем это, и делаем часто, но в этом случае ошибка была слишком грубой, слишком фундаментальной, чтобы не заметить ее. Сумасшедший сын Кирстен, явственно пораженный шизофренией, смог объяснить, почему задача для компьютера выдать наибольшее число перед двойкой является нечетким запросом, а вот епископ Арчер — адвокат, ученый, рассудительный взрослый человек, — увидев булавку на простыне рядом со своей любовницей, ухватился за заключение, что это его мертвый сын общается с ним с того света. Более того, Тим все это расписывал в книге, в книге, которую сначала издадут, а потом прочитают. Он не просто верил в чушь, он делал это у всех на глазах.
«Подожди, пока об этом не услышит весь мир», — заявили епископ Арчер и его любовница. Возможно, победа в противостоянии касательно ереси убедила епископа, что он не может ошибаться, а если и ошибется, то никто не сможет его свалить. В обоих случаях он заблуждался: он мог ошибаться, и были люди, способные его свалить. Он мог свалить сам себя, коли на то пошло.
Я все это ясно видела, когда в тот день сидела с Кирстен в одном из баров «Отеля святого Франциска». И я ничего не могла поделать. Их навязчивая идея, будучи не проблемой, но разрешением, не могла быть логически опровергнута, даже если в конечном счете это разрешение тоже означало дальнейшую проблему. Они пытались решить одну проблему посредством другой. Так ведь не делается — все–таки проблема действительно не решается другой, еще большей. Именно так Гитлер, необыкновенно походивший на Валленштейна, и пытался выиграть Вторую мировую войну. Тим мог сколько душе угодно выговаривать мне за гистеропротерон, а затем просто пасть жертвой оккультного бреда, чуши из популярных книжонок. С тем же успехом он мог бы верить, что Джеффа вернули какие–нибудь древние космонавты из другой звездной системы.
Мне больно думать об этом. Больно временами, больно всегда. Епископ Арчер, который гистеропротеронил меня по всей улице — он ведь был епископом, а я всего на всего молодой женщиной со степенью бакалавра гуманитарных наук, полученной в Калифорнийском университете… И вот я однажды вечером услышала передачу Эдгара Бэрфута об индусской анумане и узнала больше, смогла узнать больше, чем Епископ Калифорнийский. Но это ровным счетом ничего не значило, ибо Епископ Калифорнийский не стал бы слушать меня больше кого–либо другого, кроме своей любовницы, которая, как и он сам, была так обуреваема чувством вины и столь запуталась в интригах и обманах, проистекавших из тайности их отношений, что они оба уж давно утратили способность здраво рассуждать. Билл Лундборг, теперь заключенный в тюрьму, мог бы указать им на ошибку. Водитель пойманного наугад такси мог бы сказать им, что они намеренно губят свои жизни: не тем, что верят в это — хотя достаточно было бы и одного этого, — но своим решением опубликовать это. Великолепно. Сделай это. Сломай свою чертову жизнь. Составляй звездные карты, составляй гороскопы, пока бушует самая разрушительная война современности. Заслужи местечко в учебниках по истории — как тупица. Усаживайся на высокую табуретку в углу, надевай колпак и уничтожай результаты всего того социально–активного дерьма, что затевал совместно с лучшими умами столетия. За это умер Мартин Лютер Кинг. За это ты маршировал в Сельме: чтобы поверить и чтобы открыто об этом заявить, что призрак твоего мертвого сына вкалывает иголки под ногти твоей любовнице, пока она спит. Пожалуйста, издай это. Ну пожалуйста.
Логическая ошибка, конечно же, заключается в том, что Кирстен и Тим рассуждали в обратном порядке, от результата к причине. Они ведь не видели причины — они видели лишь то, что называли «явлениями», и из этих явлений они и вывели Джеффа как таинственную причину, действовавшую в «ином мире» или из него. Структура ануманы демонстрирует, что такое индуктивное умозаключение и не заключение вовсе. В анумане вы начинаете с предпосылки и посредством пяти шагов идете к заключению, причем каждый шаг герметичен как по отношению к предыдущему, так и по отношению к последующему. Но нет никакой герметичной логики в том, что разбитые зеркала, опаленные волосы, остановившиеся часы и все прочее дерьмо обнаруживают и действительно доказывают существование другой реальности, где мертвые уже не мертвые. Это доказывает лишь то, что вы легковерны и с точки зрения рассудка находитесь на уровне шестилетнего ребенка: вы не отдаете себе отчета в реальности, вы затерялись в воображаемом исполнении желания, в аутизме. Но этот аутизм весьма зловещего типа, ибо он вращается вокруг всего лишь одной идеи. Он все–таки не захватил вас полностью, не поглотил все ваше внимание. Вне этой единственной ложной предпосылки, этой единственной ошибочной индукции, вы здравомыслящи и разумны. Это локальное безумие, позволяющее вам нормально говорить и действовать все остальное время. И поэтому–то вас никто не запирает в психушку — ведь вы все еще способны зарабатывать на жизнь, мыться, водить машину, выносить мусор. Вы не безумны так, как безумен Билл Лундборг, а в некотором смысле (в зависимости от того, как вы определяете слово «безумный») и вовсе не безумны.
Епископ Арчер по–прежнему мог исполнять свои пасторские обязанности. Кирстен все так же могла покупать одежду в лучших магазинах Сан–Франциско. Никто из них не разбивал голыми кулаками витрин отделения Почтовой службы США. Нельзя арестовать человека за его веру в то, что его сын общается с нашим миром из другого, или, коли на то пошло, за его веру в этот другой мир. Здесь навязчивая идея незаметно переходит в религию вообще, становится частью ориентированности мировых религий откровения на «иной мир». В чем разница между верой в Бога, которого вы не видите, и в вашего мертвого сына, которого вы тоже не видите? Что отличает одну Невидимость от другой? Разница, конечно же, есть, но довольно коварная. Ей приходится иметь дело с общественным мнением, довольно ненадежной сферой: многие верят в Бога, но лишь немногие верят в то, что Джефф Арчер втыкает булавки под ногти Кирстен Лундборг, пока та спит — вот в чем разница, и при внесении субъективности это очевидно. В конце концов, Кирстен и Тим могут предъявить чертовы булавки, опаленные волосы, разбитые зеркала, — не говоря уж об остановившихся часах. Но, несмотря на это, они совершают логическую ошибку. Совершают ли ошибку те, кто верит в Бога, — этого я не знаю, ибо их систему верований нельзя проверить тем или иным способом. Это просто вера.
Теперь же меня официально попросили присоединиться к ним в качестве многообещающего свидетеля дальнейших «явлений», и произойди они, то я, наравне с Тимом и Кирстен, могла бы поручиться за увиденное и добавить свое имя в будущую книгу Тима — книгу которая, по словам его редактора, несомненно будет продаваться много лучше, нежели все его предыдущие книги, посвященные менее сенсационному материалу. Но я не могла оставаться равнодушной. Джефф был моим мужем. Я любила его. Я хотела поверить. Хуже того, я распознала психологический движитель, побуждавший Кирстен и Тима верить, и я вовсе не хотела низвергать их веру — или легковерие, — потому что понимала, что с ними сделает цинизм: он оставит их ни с чем, оставит их — снова — с ошеломляющим чувством вины, с чувством вины, с которым невозможно совладать. Я оказалась в положении, в котором мне приходилось идти на уступки, хотя бы pro forma. Мне приходилось изображать веру, изображать интерес, изображать волнение. Нейтральности было бы недостаточно — требовалось воодушевление. Они сломались в Англии, до того, как меня вовлекли в это. Решение уже было принято. Если бы я сказала «Это чушь», они все равно продолжали бы, но уже ожесточенно. На х*** цинизм, сказала я себе, когда сидела в тот день с Кирстен в баре «Отеля святого Франциска». Получить с него уж нечего, но есть что потерять — да и в любом случае роли он не играет: книга Тима будет написана и издана — со мной или без меня.