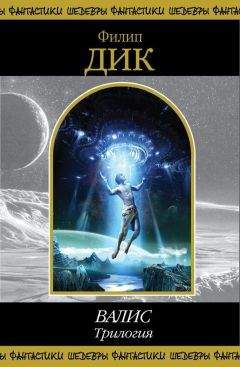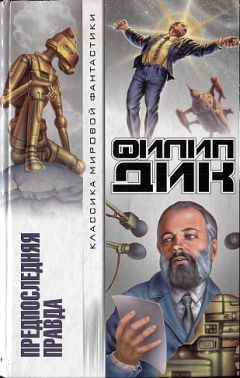— Тебе надо бы выяснить, сколько она принимает.
— Почему Билл не хочет признать, что Джефф вернулся к нам?
— Бог его знает.
— Цель моей книги — дать утешение всем убитым горем, потерявшим своих любимых. Что может быть утешительнее, нежели осознание того, что за травмой смерти существует жизнь, так же как существует жизнь за травмой рождения? Иисус уверил нас, что нас ожидает жизнь после смерти. На этом зиждется обещание спасения. «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет оживет; И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». И затем Иисус говорит Марии: «Веришь ли сему?» На что она отвечает: «Так, Господи! Я верую, что Ты Христос Сын Божий, грядущий в мир». Затем Иисус говорит: «Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить; И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная».[86] Я возьму Библию. — Тим потянулся за книгой, лежащей на краю стола. — Первое послание к Коринфянам, глава пятнадцатая, стих двенадцатый. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; Ибо, если мертвые не воскресают то и Христос не воскрес; А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших; Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». — Тим закрыл Библию. — Сказано ясно и отчетливо. Никаких сомнений быть не может.
— Наверное, — ответила я.
— В уэде саддукеев обнаружилось столько свидетельств! Столько, что они проливают свет на все kerygma раннего христианства. Теперь мы знаем столь много. Павел ни в коем случае не говорил образно. Человек воскресает из мертвых в буквальном смысле. У них была методика. Это была целая наука. Сегодня мы назвали бы ее медициной. У них был энохи, там, в уэде.
— Гриб.
Он пристально посмотрел на меня:
— Да, энохи — гриб.
— Хлеб и отвар.
— Да.
— Но теперь его нет.
— У нас есть причастие.
— Но и ты, и я знаем, что в нем, в причастии, нет того содержания. Это как карго–культ,[87] когда туземцы строят имитации самолетов.
— Не совсем.
— И на сколько они отличаются?
— Святой Дух… — Он оборвал себя.
— Именно это я и имею в виду.
— Я убежден, что за возвращение Джеффа мы обязаны Святому Духу.
— Тогда ты считаешь, что Святой Дух действительно до сих пор существует, что он всегда существовал и что он есть Бог, одна из форм Бога.
— Да, теперь считаю, — ответил Тим. — Теперь, когда я узрел свидетельства. Я не верил, пока не увидел свидетельств — часы, останавливавшиеся на времени смерти Джеффа, опаленные волосы Кирстен, разбитые зеркала, булавки под ее ногтями. Ты тогда видела ее разбросанную одежду. Ты вошла и сама увидела. Это сделали не мы. И никто из живых не делал этого. Мы не фабриковали свидетельств. Ты считаешь, что мы могли бы пойти на это, на мошенничество?
— Нет.
— А в тот день, когда с полки повыскакивали книги и упали на пол — здесь ведь никого не было. Ты видела это своими глазами.
— Как ты думаешь, энохи все еще существует? — спросила я.
— Не знаю. В Восьмой книге «Естественной истории» Плиния Старшего упоминается гриб vita verna. Он жил в первом, веке… Почти как раз в то время. И при этом он отнюдь не ссылается на Теофраста. Он сам видел этот гриб, будучи непосредственно знаком с римскими садами. Это может быть энохи. Но это только предположение. Жаль, что мы не знаем наверняка. — А затем он по своему обыкновению сменил тему. Ум Тима Арчера никогда долго не задерживался на одном вопросе. — Ведь у Билла шизофрения, так?
— Да.
— Но он может зарабатывать на жизнь.
— Когда не в больнице или когда не уходит в себя перед больницей.
— Сейчас, кажется, его состояние вполне неплохое. Но я заметил неспособность теоретизировать.
— У него сложности с абстрагированием.
— Хотелось бы знать, где и как он кончит. Прогноз… неутешителен, говорит Кирстен.
— Просто ноль. Прогноз излечения — ноль. Но он достаточно сообразителен, чтобы держаться подальше от наркотиков.
— У него нет преимущества образования.
— Сомневаюсь, что образование такое уж преимущество. Все, что я делаю, — работаю в магазине грампластинок. И меня взяли туда отнюдь не из–за того, что я чему–то научилась на кафедре английского языка Калифорнийского университета.
— Я хотел спросить тебя, какую запись «Фиделио» Бетховена нам лучше приобрести.
— Где дирижирует Клемперер. Изданную «Эйнджел Рекордз». С Кристой Людвиг в партии Леоноры.
— Обожаю ее арию.
— «О лютый зверь»? Да, она поет очень хорошо. Но ничто не сравнится с записью Фриды Лейдер, сделанной много лет назад. Это коллекционный экземпляр… Возможно, запись переиздали на пластинке, но я никогда ее не видела. Я как–то услышала ее на КПФА, уже очень давно. Никогда не забуду.
— Бетховен был величайшим гением, величайшим творческим художником, которого когда–либо видел свет. Он преобразил представление человека о самом себе.
— Да, — согласилась я. — Заключенные в «Фиделио», когда их выпускают на свободу… Это один из самых красивых пассажей во всей музыке.
— Он выходит за рамки красоты. Здесь затрагивается представление о природе самой свободы. Как же такое возможно, что совершенно абстрактная музыка вроде его поздних квартетов может без всяких слов воздействовать в людях на их знание о самих себе, на их онтологическую природу? Шопенгауэр считал, что искусство, и особенно музыка, обладало… обладает силой вызывать желание, беспричинное, навязчивое желание обернуться на себя и в себя и отказаться от всех устремлений. Он рассматривал это как религиозный опыт, хотя и временный. Каким–то образом искусство, каким–то образом музыка обладают силой преображать человека из иррационального существа в некое рациональное, более не идущее на поводу у биологических импульсов — импульсов, которые уже по определению не могут быть удовлетворительными. Помню, как я впервые услышал финал Тринадцатого струнного квартета Бетховена — не «Grosse Fuge», а аллегро, которое он позже поставил вместо «Grosse Fuge». Такая небольшая необычная вещь, это аллегро… такая живая и светлая, такая солнечная.