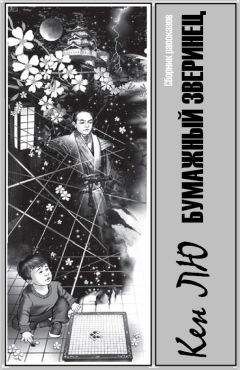Кару’у’ээ не прилагают никаких усилий, чтобы расшифровать полученные книги. Старые книги, в которых нет никакого смысла, нужны им как пустое пространство для строительства своих мудрёных причудливых городов.
Чёрточки на вазах и тарелках превратились в оживлённые проспекты, стены которых заполнили ячейки жилых комнат. Уже существовавшие контуры засверкали тщательно выполненной, фрактальной красотой. Волокна верёвок кипу на микроскопическом уровне расплели, затем снова сплели, перезавязав сплетения, так что каждый из первоначальных узлов превратился в архисложные переплетения тысяч ещё куда меньших узелков. В каких-то из них разместились лавки торговцев кару’у’ээ, начинающих собственное дело, а какие-то оказались переполненными многоквартирными жилищами молодых семей. Магнитные диски превратились в развлекательные арены. Днём по их поверхности проносятся молодые и ищущие приключений кару’у’ээ, получая удовольствие от сдвигающихся очагов притяжения и отталкивания локальных магнитных потенциалов. Ночью же эти диски бывают залиты слабым светом — огоньками, возникающими от магнитного потока. Сияние давно погибшей информации освещает танец тысяч молодых людей, пришедших сюда отыскать любовь.
Будет неправильным сказать, что кару’у’ээ вовсе не трактуют все эти книги. Когда представители рас, отдавших артефакты кару’у’ээ, прибывают посмотреть на творения предков, они всегда чувствуют что-то знакомое в строениях, возведённых этими миниатюрными существами.
Например, когда для представителей Земли провели экскурсию по Великому Рынку, построенного в кипу, земляне могли видеть (через микроскоп) суету оживлённой торговли и слышать беспрерывный шёпот чисел, счетов, перехода денег из рук в руки. Один из представителей Земли, далёкий потомок людей, которые когда-то завязывали узлы этих верёвочных письмён, был поражён до глубины души. Хотя он не мог прочитать кипу, он знал, что узлы были сделаны для того, чтобы отслеживать движение чисел и счетов, подводить итоги сбора налогов и бухгалтерский учёт.
Или возьмём в качестве примера кватзолей, которые обнаружили, что кару’у’ээ преобразовали один из потерянных каменных разумов кватзолей в научно-исследовательский комплекс. Мельчайшие камеры и капилляры, через которые водяные токи мыслей кватзолей когда-то прокладывали свой путь, теперь превратились в лаборатории, учебные комнаты и библиотеки, а в аудиториях для лекций эхом отдавались уже совсем новые идеи. Делегация кватзолей прибыла, чтобы восстановить разум предка, но вернулась с пустыми руками, посчитав, что всё и так идёт так, как должно идти.
Это похоже на то, как будто кару’у’ээ были способны воспринимать эхо прошлого, и бессознательно, возводя палимпсесты построек на давно созданных и давно забытых книгах, натыкались на смысл написанного, который не мог быть потерян, сколько бы времени не прошло.
Они читают, не зная, что же они читают.
* * *
Зоны разума сияют в холодной глубокой пустоте Вселенной как пузырьки в бескрайнем тёмном океане. Они кувыркаются, меняются, сливаются и разрушаются, но всегда за ними, поднимающимися к невидимой поверхности, остаются спиральные флюоресцирующие следы. И каждый из таких следов уникален как подпись.
Все изготавливают книги.
* * *
Ken Liu. The Plague. 2013.
Перевод с английского Ильи Суханова, 2015.
Мы с Мамой ловим в реке рыбу. Солнце почти село, и рыба как пьяная. Лёгкая добыча. Небо ярко-красное, и такой же оттенок у маминой кхожи: лучи закатного солнца разлиты по ней как кровь.
Внезапно с кочки, поросшей камышами, выронив длинную трубку со стеклянным концом, в воду падает крупный мужчина. Потом я понимаю, что он не полный — просто на нём толстая одежда, переходящая в стеклянную сферу вокруг головы.
Мама смотрит, как мужчина бьётся в воде, словно рыба.
― Пойдём, Марни.
Но я не иду. Проходит минута, и человек уже почти не двигается. Он извивается, пытаясь достать до трубок на спине.
― Он не может дышать, — говорю я.
― Ты не можешь ему помочь, — отвечает Мама. — Воздух, вода — всё здесь яд для таких, как он.
Я бросаюсь вперёд, присаживаюсь рядом и смотрю на его лицо сквозь стекло. Лицо голое. У него нет кхожи. Он из Купола.
Его отвратительное лицо перекошено от страха.
Я протягиваю руки и распутываю трубки на его спине.
Жаль, что я потерял камеру. Танец отблесков костра на их блестящих телах не передать словами. Благородство пляшущих теней скрывает деформированные конечности, формы, облизанные голодом, уродливые, изломанные фигуры. От этого зрелища у меня замирает сердце.
Спасшая меня девочка предлагает миску с едой. Кажется, это рыба. Я принимаю с благодарностью.
Достаю полевой набор для очистки и посыпаю еду наноботами. Они сконструированы так, что распадаются сразу же после того, как выполнят работу. Ничего общего с теми ужасными наноботами, которые вышли из-под контроля и превратили Землю в место, непригодное для жизни.
Боясь обидеть, поясняю:
― Специи.
Смотреть на неё — как глядеться в человекообразное зеркало. Вместо её лица я вижу искаженное отражение своего. По неясным бугоркам и вмятинам этой сглаженной поверхности трудно прочитать эмоции, но, думаю, она озадачена.
― Мамошшк шкашшал. пищщ есст ядоффит, — произносит она, шипя и причмокивая. Я не виню её за искажённые фонемы и охромевшую грамматику. Несчастным заражённым людям, вынужденным бороться за существование в этой глуши, явно не до стихов и не до философии. Она говорит: «Мама сказала, что эта пища — яд дня тебя».
Я отвечаю:
― Со специями она безвредна.
Когда я выдавливаю очищенную еду в питательную трубку на боку шлема, лицо девочки, словно гладь пруда, покрывается рябью, и моё отражение распадается на сотни цветных осколков.
Это улыбка.
Другие не доверяют человеку из Купола, так как он в своём костюме прятался около деревни.