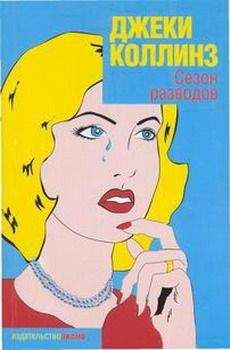— Это трудно, — произнесла она тихо.
Излечи меня, хотелось ей сказать. Исцели меня.
— Трудно, — согласился он. — Роз, это самое удивительное и чудесное событие в моей жизни, вообще самое удивительное и чудесное, что может произойти. Но это действительно трудно. Очень. Труднее в моей жизни еще ничего не было. Будто самый сложный предмет в колледже, самая тяжелая игра, самая крутая гора, а ты карабкаешься на велосипеде. Тут ничего не купишь — приходится трудиться. А потом еще трудиться, и снова, и снова. Я этого не знал.
Она смотрела, как он сидит на ступеньке, свесив сцепленные руки между колен, словно прямо сейчас можно было увидеть, как он трудится.
— Он удивительный, — произнес, помолчав немного, Майк. Изумленно покачал головой. Она понимала, о ком он говорит. — Ты знаешь, что он спит всего три часа в сутки? У него невероятная энергия. Посмотри как-нибудь, как он молится. Она ничего не ответила. Майк перевел дыхание, словно собирался нырнуть: очевидно, его речь требовала мужества и воли.
— В общем, — выдавил он, — что я должен сказать об этом заведении и твоей работе здесь. Следующее. Если ты не сможешь этим заниматься, больше тебе тут ничего не светит.
— В смысле, вернуться меня не пригласят.
— Да некуда уже будет возвращаться, — сказал он. — Закрывается лавочка, в том виде, в каком была. Больше я тебе ничего не могу сказать, но нас теперь только Бог может спасти. Если мы дадим ему такую возможность.
Ей вдруг срочно захотелось в туалет, немедленно; нужда эта накинулась на нее неумолимо, без всякого предупреждения.
— Старый мир умирает, — произнес он так, словно цитировал какой-то известный ей текст. — А новый рождается в муках.{28}
Сперва то был просто кашель, даже не очень сильный, но неотвязный. Когда мать, которую любая болезнь выводила из равновесия, слушала кашель Роузи и глядела на дочь, на лице у нее появлялся крест — его составляли нахмуренные брови, маленький узкий нос и глубокая складка над бровями между углубившимися морщинами, как рубец. В детстве Роузи думала, что это и называется «поставить на ком-то крест».
Она все кашляла и кашляла доктор Крейн приходил и смотрел ей горло, брал мазок, тампон вызывал у нее блевоту, брызги которой летели ему на очки, но толку не было. Она кашляла дни и ночи напролет, ее освобождали от уроков, укладывали в постель, наступало временное улучшение, а потом все повторялось сначала. Ей было одиннадцать лет, двенадцати не исполнилось, еще до первых месячных.
— Мам, смотри.
Они миновали нарядный магазин подарков, населенный большими и малыми игрушечными зверями, некоторые из них в бинтах, в гипсе, с костылями, воздушные шары, настольные игры, головоломки, гостинцы.
— Да, солнышко, точно как у тебя.
Сандалии Сэм топотали по наливному полу; ручка дочери вспотела в руке Роузи.
О, ночи кашля! Глядеть на полоску света под дверью, ждать, когда снова войдет мама в потрескивающей от статического электричества ночнушке из вискозы, сядет на койку и потрогает лоб. Температура нормальная, она никогда не повышалась, но мама каждый раз ощупывала Роузи лоб и прижимала дочь к себе при новых приступах кашля, а он усиливался, пробирая ее всю, пока очередной неистовый спазм не переходил границы, исторгая из нее желтоватую мокроту — со столовую ложку.
Она ведь совсем забыла про это, напрочь забыла: лишь увидев название учреждения, стала понемножку вспоминать, и прошлое хлынуло стремительным потоком, переполняя ее, так что Роузи, к удивлению Сэм, то и дело приостанавливалась со вздохом: «О-хо-хо». Она вспоминала, какую жизнь пришлось ей вести из-за этого кашля, совсем не такую, как до и после него. Она и ее кашель: она его не выбирала, не любила его, Бог свидетель, но с неким благоговейным трепетом вспоминала, как ей довелось узнать кашель поближе и привыкнуть к нему: то была ее жизнь, не такая, как у прочих.
Ожидает ли это Сэм — а может, уже происходит, и Сэм направляется туда, где окажется в одиночестве?
— День добрый, мы на запись?
— Ну да, наверное.
— А в какое отделение направляемся?
— Неврология.
— Ясненько.
Бабулька в очках с золотыми цепочками улыбнулась наблюдавшей за ней Сэм. Сведениями о себе поделились, подробный перечень инструкций получили — словно им предстояло пройти лабиринт; да так оно и было.
Роузи в конце концов привезли сюда (не в этот светлый новый корпус с белой мебелью и большими окнами, но все же сюда, в «Малышей»). Она худела, никак не шла на поправку, мать тоже сдавала от этого и от всего прочего — как понимала теперь Роузи, сумевшая по прошествии лет вставить этот эпизод в историю (непонятную и неведомую ей тогда) семейной жизни родителей и смерти отца. Одежду у нее забрали, определили ей палату, белую постель.
Несчастное дитя, ох, бедняжка, подумала Роузи, исполнившись жалости к той худенькой испуганной девочке, рыжей, в криво сидевших зеркальных очках, кашлявшей без остановки и без причины. Без всякой причины.
Оказалось, что неврология размещается в старом ветхом крыле, очень ветхом, пугающе ветхом для большой больницы; на шестой этаж их доставил гулко лязгающий лифт, просторный, способный вместить каталку или тележку с завтраками, которыми он и пропах, и теперь Роузи, словно идя по собственному следу, поняла, что бывала здесь раньше; ей оказался знаком печальный запах остывших тостов, овсянки и, неистребимый, — кислого молока.
— Уже были у нас? — спросила медсестра в приемном окошечке, и Роузи далеко не сразу поняла, что спрашивают про Сэм, а не про нее; их передали вместе с бумагами санитарке, которая должна была отвести их в кабинет врача.
— Как тебя зовут, милая? — спросила санитарка у Сэм.
— Сэм.
— Ух ты. Прям как меня.
— Вас тоже зовут Сэм? — удивленно спросила Роузи.
— Да нет, просто у меня тоже мальчишечье имя. Бобби.
— Меня зовут Саманта, — твердо сказала Сэм, уже чувствительная к таким вещам.
— А меня вот Бобби.
Это была остролицая худая женщина со светлыми, лишенными ресниц глазами, напомнившая Роузи первых колонистов или фермерш со старых фотографий, но черные волосы ее были начесаны и завиты по моде кантри-певцов, хотя особой пышностью не отличались.
Бобби повела их по комнатам и лестницам. Она заметила, что Роузи поглядывает вверх на потолки, запятнанные желтыми разводами, как записанная постель.
— Переезжаем, — сказала она. — Сюда и десяти центов больше не вложат. Когда все переедут в новое здание, здесь будет ремонт.