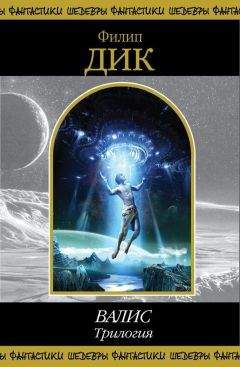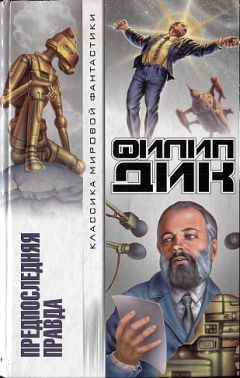Это не беспринципность. Это пробуждение перед последней обороной. Рассматривать Тима в его последние дни как ничтожного человечишку, занятого животным спасением любой ценой, отрицающего любые моральные устои — значит не понимать его совершенно. Когда под угрозой ваша жизнь, вы действуете определенным образом, если вам достает сообразительности, и Тим так и поступал: он избавился от всего, от чего можно было избавиться, от чего нужно было избавиться — он обнажил клыки и готов был кусаться, и именно так человек и поступает, в смысле человека–твари, твердо решившегося спастись, — и к черту этот груз. После смерти Кирстен Тиму грозила неминуемая смерть, и он это понимал, а чтобы вам понять его в этот заключительный период, вы должны принять во внимание его осознание, и также вы должны понять, что его восприятие, его осознание, было правильным. Он находился, выражаясь языком психиатров, в контакте с реалистичной ситуацией (как будто есть какая–то разница между «ситуацией» и «реалистичной ситуацией»). Он жаждал жить. Как и я. Как и вы, вероятно. Тогда вы должны понять, что творилось в душе у епископа Арчера в течение периода после смерти Кирстен и до его собственной: первая — нечто данное, вторая — угрожающая, но спорная вероятность, не реальность. Во всяком случае, не тогда, хотя с нашей нынешней позиции, при взгляде в прошлое, мы и можем представить ее как неизбежную. Но это известная черта ретроспективного взгляда — для него все неизбежно, поскольку все уже произошло.
Даже если Тим и расценивал свою смерть как неминуемую, определенную пророчеством, определенную сивиллой — или же Аполлоном, говорившим посредством сивиллы как глашатая, — он был решителен в противостоянии этой участи и организовывал сопротивление, на какое только был способен. Думаю, это действительно замечательно и заслуживает восхваления. То, что он отверг всего лишь кучу хлама, в который некогда верил и о котором проповедовал, не имеет значения. Он что, должен был вцепиться в это дерьмо и умереть в согнувшейся, расслабленной позе, с закрытыми глазами и спрятанными клыками? Я твердо убеждена в этом. Я видела это. Я понимала это. Я видела, что груз сброшен. Я видела, как он отправился за борт в тот миг, когда осуществилось первое пророчество доктора Гаррет. И я сказала: слава тебе, Господи. И все–таки я считаю, что он должен был отказаться от издания этой чертовой книжонки, этой «Здесь, деспот Смерть», как я ее озаглавила. Но он получил за нее тридцать тысяч долларов, и, возможно, его решение все–таки пустить ее в печать было просто еще одним свидетельством его практичности. Не знаю. Некоторые стороны Тима Арчера остаются для меня загадкой даже на сегодняшний день.
Просто это было не в стиле Тима — устранить ошибку, прежде чем она произошла. Он позволял ей появиться, а затем — как он сам выражался — подавал исправление в форме поправки. За исключением тех случаев, когда дело касалось его физического спасения — тут он просчитывал действия заблаговременно. Тут он готовился. Человек, бежавший всю свою жизнь, опережая самого себя, обгоняя самого себя, словно подгоняемый амфетаминами, которые глотал ежедневно, вот этот человек теперь неожиданно прекратил бег, оглянулся, всмотрелся в судьбу и сказал — словами, приписываемыми Лютеру, хотя это не так, — «Здесь я стою, и я не могу иначе». У немецкого онтологиста Мартина Хайдеггера есть для этого выражение: превращение неподлинного Бытия в истинное Бытие, или «Sein». Я изучала это в Калифорнийском университете. И даже не думала, что когда–либо увижу, как это происходит. Но это произошло, и я увидела. И я нашла это прекрасным, но очень печальным, ибо оно не состоялось.
Я мысленно представила себе дух своего мертвого мужа, проникающий в мой разум и при этом весьма забавляющийся. Джефф указал бы мне, что я рассматривала епископа как грузовое судно, фрахтовщика, да еще обнажающего клыки — перемешанная метафора, от которой он пребывал бы в состоянии восторга на протяжении нескольких дней. Я бы конца не слышала его восклицаниям. Из–за самоубийства Кирстен я начала трогаться умом. На работе, сверяя содержимое поставки с перечнем фактуры, я едва обращала внимание на то, что делаю. Я ушла в себя. Мои коллеги и шеф говорили мне об этом. И я мало ела. Я проводила свой обеденный перерыв за чтением Дэлмора Шварца, умершего, как мне сказали, попав головой в мешок с отбросами, который он выносил по лестнице, когда с ним случился сердечный приступ. Великолепный способ для поэта умереть!
Проблема самоанализа заключается в том, что у него нет конца. Как и у сна Основы[109] во «Сне в летнюю ночь», у него нет основы. За годы обучения на кафедре английского языка в Калифорнийском университете я научилась составлять метафоры, играть с ними, мешать их, подавать их. Я метафорическая наркоманка, переобразованная и остроумная. Я слишком много думаю, слишком много читаю, беспокоюсь о тех, кого слишком сильно люблю. Те, кого я любила, начали умирать. Осталось уж немного, большинство ушло.
В мир света навсегда они ушли,
И мне здесь тяжко одному,
Лишь память их, как яркий свет вдали,
Мою пронзает тьму.
Как написал Генри Воэн в 1655 году. Стихотворение заканчивается:
Иль сделай, чтоб, когда я в высь взгляну,
Мне взгляд не помрачала мгла,
Иль уведи меня в ту вышину,
Где видно без стекла!..[110]
Под «стеклом» Воэн подразумевает телескоп. Я проверяла. Второстепенные метафизические поэты семнадцатого века составляли мою специализацию, когда я училась в школе. Теперь, после смерти Кирстен, я вновь вернулась к ним, потому что мои мысли, как и их, обратились к потустороннему миру. Туда ушел мой муж. Туда ушла моя лучшая подруга. Я ожидала, что и Тим уйдет туда, — и так он и сделал.
К несчастью, я стала реже видеться с Тимом. Для меня это было самым болезненным ударом. Я действительно любила его, но теперь связи были оборваны. Они были оборваны с его стороны. Он оставил должность епископа Калифорнийской епархии и переехал в Санта–Барбару и тамошний исследовательский центр. Его книга, которая, по моему непреложному мнению, не должна была издаваться, вышла, выставив его дураком. К этому добавился скандал с Кирстен: медиа, несмотря на манипуляции Тима со свидетельствами, пронюхали об их тайных отношениях.[111] Карьера Тима в епископальной церкви внезапно завершилась. Он собрался и уехал из Сан–Франциско, объявившись, как он когда–то говорил, в частном секторе. Там он мог расслабиться и стать счастливым, там он мог жить без репрессивного осуждения христианского канонического права и морали.