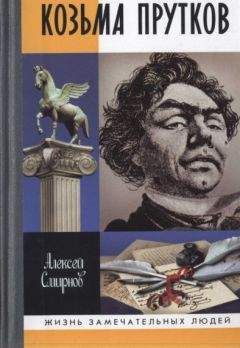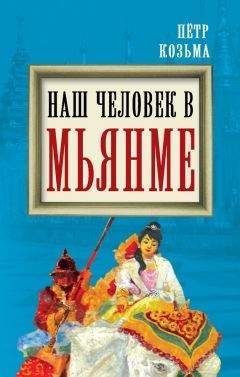Я пригнулся и подался вперед, но тут увидел, что над плечами Щелчкова вырастают, как у Змея Горыныча, две пары лопоухих голов: пара – слева, и пара – справа, – хулиганская четверка Матросова.
– Математик, – сказал главарь, посверкивая передним зубом, обёрнутым в серебряную фольгу, – сколько будет два фингала в квадрате?
Теперь подался вперед Щелчков, и мы с ним чуть не сшиблись носами. Надо ж было так капитально влипнуть – оказаться меж трех огней (Севастьянов был номер третий), не имея ни лазейки для отступления. Тупик был, вроде бы, полный – куда ни кинь, всюду клин. Сзади, воняя бочкой, каланчою нависал Ухарев. Спереди матросовская четверка погыгыкивала, предвкушая потеху. Слева были дома, справа – сад и роковая скамейка, на скамейке – Севастьянов со скальпелем.
Что мне больше всего хотелось – это сделаться человеком-птицей, невидимкой исчезнуть в воздухе, раствориться амёбой в луже, – но, увы, любая фантазия разбивалась грубой правдой реальности.
Из трех бед выбирают меньшую, и я пытался лихорадочно оценить, какая же из них меньшая. Похоже, меньшая все-таки – Севастьянов, как-никак он сидит к нам задом, к тому же, кажется, не догадываясь о том, что мы со Щелчковым неподалеку.
На остановке затормозил трамвай, из него вышел человек в шляпе и медленно пошел в нашу сторону. Рядом с нами он задержался, закурил и пошагал дальше. Сейчас мне было не до случайных прохожих, курящих, некурящих и прочих. Поэтому лишь краешком зрения я отметил огонек папиросы, зелень шляпы и колесико дыма, покатившееся по Садовой над тротуаром. Отметил и мгновенно забыл.
– От долгов бегать нехорошо, – сказал голос у меня за спиной. – Человек, который бегает от долгов, называется холявщик и фраер. – Я почувствовал на затылке тень нависающей надо мной пятерни. Тень была большая и вязкая, она больно давила голову, и голова моя, не вынеся гнета, низко наклонилась к земле.
В это время кулак Матросова, стосковавшись по любимому делу, выскочил из-за щелчковской щеки и, не найдя моего лица, врезался во что-то костлявое, что пряталось позади меня.
– Хулиганы! – закричал Ухарев, пострадавший ни за что ни про что. – Все на одного, да? Граждане! – закричал он громко. – Что же это такое делается! Прямо среди белого дня честного человека измордовали!
Я стоял, ничего не слыша – ни этой сумасшедшей возни, ни ухаревских безумных криков, ни топота матросовских каблуков, – стоял, опустив лицо и видя перед собой одно – приткнувшийся к моему ботинку маленький коробок с ракетой.
– Ну же! – твердил Щелчков, дергая меня за рукав. – Хватит паралитика строить! Бежать надо, драпать, уносить ноги, пока не поздно!
Я очнулся, схватил коробок, и мы помчались, не разбирая дороги, – по каменным волдырям Садовой, через проволоку трамвайных рельс, за столбики покровской ограды, по лужам, по кустам, по земле. Мы бежали, перепрыгивая скамейки, распугивая пенсионеров и голубей, в спину нам свистели и лаяли и бросали шелуху и окурки. Скоро к нашему слоновьему топоту добавился новый, чавкающий. Мы подумали, что это погоня, и прибавили оборотов. Но чавкающий топот не утихал – наоборот, становился громче. И к чавканью добавилось хлюпанье.
– Погодите! – мы услышали сзади. Голос явно принадлежал Шкипидарову. Мы еще пробежали немного и, свернув с Маклина на Прядильную, встали, прислонившись к стене. Мы стояли, высунув языки и обмахивая ладошками лица. Из-за булочной выскочил Шкипидаров, озираясь, доковылял до нас и, выпучив глаза, сообщил:
– Полная, ребята, хана!
– То есть как это? – не поняли мы.
– Ботинки я промочил, пока на мокрой земле отсиживался, – теперь чавкают и местами хлюпают. Значит, скоро развалятся. А от мамки новые фиг дождешься – я эти только месяц ношу. В общем, хана ботинкам. И от матери теперь попадет.
– Ничего, может, и не развалятся, – успокоил я Шкипидарова. – Главное, протянуть до лета, а там можно ходить в сандалиях.
– Если б только чавкали, тогда да, – сумрачно сказал Шкипидаров. – Тогда бы, может, до лета и протянул. Так они ж ведь еще и хлюпают.
– «Чавкают, хлюпают» – ну, заладил! – осадил его нетерпеливый Щелчков. – Мы зачем тебя туда посылали? Чтобы ты нам про ботинки рассказывал? Ты нам лучше про эту парочку расскажи – что ты слышал, что видел, ну и вообще.
Шкипидаров вздохнул печально и начал свой невеселый рассказ.
– Сижу я это, значит, в кустах, тычу палкой, вроде как ковыряюсь. Короче, как вы советовали. От скамейки, где эти двое, метрах в четырех, может, в трех. Слушаю, что те говорят. Сначала они шушукались и зыркали друг на друга глазами. Плохо зыркали, не по-доброму. И зубы один другому показывали – он ей, а она ему. Ну, думаю, сейчас друг дружку перегрызут. Только люди ж кругом, машины, поэтому, наверно, и обошлось. Потом стали говорить громко.
Она ему: ты подлец! А он ей: я не подлец, я ученый. То, что не позволено простым смертным, нам, ученым, самой наукой разрешено. Она ему опять: нет, подлец! Я, говорит, тебе верила, я, говорит, тебя любила, но больше не верю и не люблю. Он ей: Верочка, но почему? Из-за этих твоих малолеток-соседей? Но я же думаю о будущем медицинской науки, о тысячах, о миллионах спасенных жизней, ради которых двое глупых мальчишек должны пожертвовать какой-то там парой рук или ног. Она ему: ты знаешь, о чем я. Дело, говорит, не в мальчишках. Дело, говорит, в твоей совести, которой у тебя нету.
Тут она как снимет башмак, да как грохнет башмаком по скамейке, этот как подпрыгнет, который рядом, как заголосит сумасшедшим голосом. Там, через дорожку, в шашки пенсионеры резались, малый чемпионат Садовой по игре в поддавки, в общем, от их скандала, соседки и который ученый, первый кандидат в чемпионы дядя Гриша Каплан, нервничая, дамкой противника скушал шашку на своей клеточке…
Я остановил Шкипидарова.
– Бог с ним, – говорю, – с дядей Гришей. Некогда, давай про соседку.
– Значит, он подпрыгнул и говорит, ну, которому она сказала: подлец. Ага, он говорит, я подлец? Да я, кричит, жизнь свою положил, придумывая искусственную пиявку! Да я… А она ему: Ха-ха-ха! Тоже мне слуга человечества. Носишься со своей пиявкой, как курица с золотым яйцом. Был бы хоть какой в этом прок, людей только зря калечишь. А он ей: я добьюсь, я сумею… Добьешься, она – ему. Как с банкой-невидимкой добился. Я всю голову об твою банку сплющила, пока голову в эту банку просовывала. Тоже мне, кричит, невидимка. Меня в этой, говорит, невидимке, чуть два этих малолетних оболтуса не застукали на хищении ёршика. Да таких, кричит она, невидимок, у меня, говорит, целая антресоль.
Услышав про банку-невидимку, мы со Щелчковым переглянулись, сразу вспомнив коридорную сцену и шишку на моем пострадавшем лбу. Фраза же про малолетних оболтусов очень нам с приятелем не понравилась.