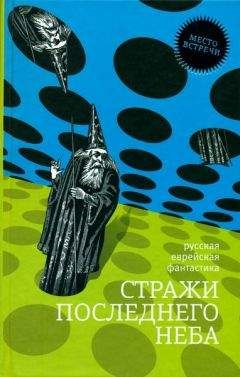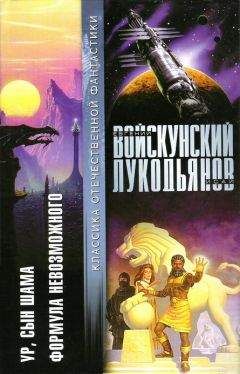Хава шевельнулась, медленно повернула голову и посмотрела на мужа. Портной с ужасом понял: это не ее взгляд, этот взгляд был темен и страшен, глазами несчастной женщины смотрела в мир пропащая, неприкаянная душа грешника. От этого взгляда холод пробрал Арье Фишера до костей, до самого сердца. Будто чьи-то ледяные пальцы сдавили его горло.
Огонек ближайшей свечи дернулся.
— Именем Бога живого, Бога Авраама, Ицхака и Якова, именем Бога Израилева повелеваю тебе: назови себя! — хриплым от волнения голосом потребовал рабби Цви-Гирш.
Хава так же медленно повернула голову в его сторону. Рот ее искривила усмешка.
— Я… вижу тебя… раввин… — сказала она. Голос ее то и дело прерывался, слова сопровождались низким эхом. — И слышу… Мое имя проклято… тебе нет нужды его знать…
— Для чего ты пришел? — сурово вопросил раввин. — Для чего мучаешь ее?
Словно в издевку над этим вопросом, Дибук пронзительно расхохотался, после чего тело Хавы выгнулось дугой, почти невозможной для человека в обычном состоянии.
Истерический хохот рвался в уши, вызывая жуткую боль. Хава дернула руками, но веревки удержали ее в прежнем положении. Некоторое время она пыталась высвободиться, причем лицо его то и дело искажалось самым странным образом.
Когда эти попытки не удались, Дибук вдруг успокоился.
— Ты хочешь знать мое имя? — глухим голосом спросил он. — Изволь, я назовусь. Мое имя — Лейб, сын Мордехая и Фейги… — при этих словах вновь появилось эхо.
— Лейб, сын Мордехая, — повторил раввин торжественно-мрачным тоном, — грешник и убийца, именем Господа Бога Израилева, великого и страшного, заклинаю тебя уйти, избавить женщину от мучений!
— Не могу, — ответил Дибук, и странная тоска послышалась Арье Фишеру в этом жутком голосе. — Не могу, раввин, не могу… Не могу…
В это самое время портной почувствовал, как оцепенение, охватившее его ранее, усиливается, словно невидимые сети начинают пеленать тело. Он затряс головой, отгоняя наваждение, но это не помогло. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Арье Фишер судорожными движениями сорвал тфилин со лба и с левой руки, отбросил в сторону. Пальцы тотчас начали неметь, словно рука погрузилась в холодную воду. Холод добрался до сердца, заключил его в ледяной обруч.
Желтые огоньки разом начали тускнеть. Негромкий голос рабби Цви-Гирша превратился в сонное бормотанье, а фигуры прочих собравшихся заколебались, словно отражения в воде от легкого ветерка.
Спустя мгновение портной обнаружил, что неподвижно лежащую Хаву обволакивает едва заметное облако, имевшее очертания человеческой фигуры. Арье Фишер хотел обратить на это внимание раввина, но не смог произнести ни слова.
Свет едва теплился. В этом тусклом и слабом освещении реб Фишер увидел, как облако сгустилось и медленно поплыло к нему. Он хотел бежать, но не в силах был сделать ни единого шага. Между тем бормотанье раввина Галичера сменилось вибрирующим гуденьем, а очертания окружающих дрожали и растекались, превращаясь в туманные тени, так что вскоре Арье Фишер остался в полном одиночестве, охваченный со всех сторон бесцветной мглой.
«Арье… — услышал он голос. — Арье, ты виновен во всем… Тебе и исправлять… На мне кровь праведников… Большой грех… Столь тяжкий, что после смерти дьяволы закрыли душе моей путь в ад, а ангелы — в рай…»
Страшный, неживой голос звучал в голове портного. Мгла перед глазами темнела, превращалась в дымную вращающуюся воронку, куда неотвратимо втягивалось его меркнущее сознание.
«Мне было суждено провести долгое время в полной неподвижности — во искупление прегрешений. Господь вселил мою душу в камень. Ты разрушил камень, ты убил это жалкое подобие тела, вновь обнажил мою душу, вынудил меня испытать мучения неприкаянности…»
Луч неестественно-желтого цвета, узкий и острый как игла, разорвал тьму. Неведомая сила перенесла портного из дома в смутнознакомое место. Низкие желто-серые тучи плотно укрывали небо. Реб Фишер потерянно огляделся и вдруг понял: он оказался на старом кладбище. Только выглядело оно не так, как давешней ночью. Надгробья не были повалены; бет-тохора не был разрушен.
«Ты должен найти…» — раздался все тот же голос в его голове.
«Что найти?» — хотел было спросить Арье Фишер, но тут услышал другой голос, куда более страшный, нежели первый. И этот второй голос, подобный раскатам грома, произнес: «Лейб, сын Мордехая! Нет тебе спасения и нет прощения!..»
Более всего испугало портного то, что он вдруг почувствовал: громовой голос обращался к нему, это его звали Лейбом, это он был великим грешником, которому нет ни спасения, ни прощения.
Ноги его подкосились, он рухнул на колени в желтую пыль, покрывавшую все вокруг.
Голос продолжал: «Кровь мучеников на тебе, кровь женщин, детей и стариков, осквернение святынь…»
— Нет!.. — кричал реб Фишер. — Нет!..
Но вдруг увидел он, как над могилами, окружавшими его, взвились желтые смерчи. Их становилось все больше, они превратились в сплошную стену из желтой пыли, окружавшую его со всех сторон. А потом сквозь эту стену проступили зыбкие, лишь наполовину реальные фигуры людей. Их облик был ужасен: кровоточащие раны вместо глаз, отрубленные руки, вспоротые животы. Все эти призрачные мертвецы молча и неумолимо приближались к обезумевшему от ужаса портному, забирая его в плотное кольцо. От них исходили волны нестерпимого зноя, с каждым мгновением несчастного Арье Фишера жгло все сильнее, казалось, еще чуть-чуть — и он превратится в сгусток обугленной плоти.
Точно такая же знойная волна поднималась из глубины его сознания — то чужая душа оживала в его теле, чужая память разворачивала ужасные картины.
Вот гайдамаки жгут дома в местечке. Вот они носятся меж огней, безжалостно убивая всех, кто не успел спрятаться. Вот немногие — и он в том числе, он, Лейб бен Мордехай, — пытаются укрыться на старом кладбище в отчаянной надежде, что злодеи их не найдут. Вот его хватают гайдамаки: «Крестись, жид, если жить хочешь», — и он согласно кивает головой, и его тут же крестят — на берегу Долинки. А после суют в руки саблю… Он идет на кладбище, он ведет их на кладбище и здесь, с неожиданным остервенением вытаскивает спрятавшихся и рубит, рубит — под одобрительные крики новых сотоварищей…
Тут же словно вихрь налетел, рассеял призрачные фигуры, оставив его вновь в полном одиночестве и тишине. Какой-то частичкой сознания он все еще ощущал себя Арье Фишером, портным, но он же был и злодеем Лейбом, ставшим в крещении Левком Жидовином. Он видел пылавшие синагоги, зажженные его руками, он чувствовал на своем лице кровь невинных жертв, кровь, лившуюся из-под его сабли.