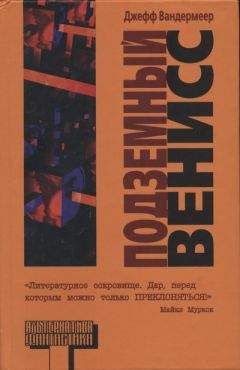Психоведьма достала самозагорающуюся сигару, затянулась и присела рядом в кресло.
— Кэндл ушел, — сообщила она. — Велел передать, что мечтает никогда тебя больше не видеть.
Шадрах глубоко и судорожно дышал, чувствуя, как руки бьет крупная дрожь. Мужчине хотелось ударить Рафту, но он продолжал обессиленно лежать в кресле. Как можно такое помнить? Как можно такое забыть? Он побывал внутри разума Николь. Побывал ею. И теперь те странные дикие звери из района Толстого будут вечно рыскать в глубинах его сознания. Осталось такое чувство, будто с ним только что занимался любовью мужчина-голограмма. На сердце легло тяжелое бремя ее любви, потом отчуждения и, наконец, — приговора. Который Шадрах и принял. Все верно, все так, как она сказала.
— Напрасно я тебе разрешила, — тихо, словно сдерживая клокочущее внутри чувство, сказала психоведьма.
— Да нет же, нет. — Шадрах даже приподнялся, побледнев лицом.
Рафта отвернулась.
Мужчина посерьезнел и вытер слезы.
— Скажи, что находится на десятом уровне?
— Мусорная свалка. Ничего особенного.
— Разве что Николас.
— Кто?
— Человек, убивший Николь. Ее брат, — произнес Шадрах, запинаясь на каждом слове.
Рафта усмехнулась.
— Только не говори, что отправляешься мстить и не останешься с ней.
— Я прикончу этого Николаса. А потом возьмусь за Квина, который его заставил.
Психоведьма сделала новую затяжку.
— Стало быть, подставляешься под удар. И все ради мести. А любимой твоей куда деваться? Назад, на кладбище, и думать нечего.
— Вот моя кредитка. Тут хватит на все расходы.
— Да уж, это ее сильно утешит, когда девчонка очнется.
— У меня нет выбора. Никакого.
Он встал и направился к двери.
А вслед раздалось бесконечно язвительное, Шадрах еще никогда не слышал в человеческом голосе такого яда:
— Ты что же, не взглянешь на нее перед уходом?
— Нет, — отвечал мужчина и вышел.
Как только захлопнулась дверь, он замотал головой вокруг, точно слепой. В узком коридоре еле-еле сочился лиловый свет. Некоторое время Шадрах бессмысленно бродил по извилистому пустому тоннелю, но вскоре последние силы иссякли. В голове теснились картинки из ее жизни, толпились ее мысли. Мужчина опять перестал быть собой, и зрение странным образом раздвоилось: тоннель превратился в огромную червоточину, ведущую сквозь эпизоды, увиденные ее глазами. Картинки множились и ветвились, так что Шадрах совсем перестал различать дорогу.
Споткнувшись и едва не разбив нос, он решился присесть, сполз по стене тоннеля и уперся ногами в другую стену. Из пучины усвоенных сожалений, ужасов, счастья, радостей, скорбей и восторгов с ревом выстрелила одна-единственная пронзительная мысль: «Она меня не любит». Это казалось невыносимой ношей. Но Шадрах был не из тех, кто сломается или даст хотя бы трещину под гнетом подобных новостей. Вместо этого он согнулся — и продолжал, продолжал сгибаться под бременем нового жуткого знания, понимая, что скоро изменится навсегда, и радуясь, даже желая этого. Возможно, преображенное существо уже не будет испытывать боли, не будет бояться, а главное — оглядываться в жуткую бездну и думать: сколько же от меня уцелело?..
Она его не любит. Подумав об этом, мужчина разразился грудным громогласным смехом, от которого перегнулся пополам и некоторое время лежал в пыли, ожидая, пока придет в себя. Ну надо же, обхохочешься. Он сразился с дюжиной кошмаров, и все ради милой. А она — не любила. Шадрах ощущал себя героем из головизора — паяцем, шутом, болваном.
Но вот мужчина выпрямился, отряхнул запыленные плечи, достал Иоанна Крестителя из кармана и положил голову рядом с собой.
— Сколько тебе осталось? — спросил он у суриката.
Иоанн, растерявший свою обиду и злость, утомленно проговорил:
— Меньше суток. Чувствую, органы отключаются.
— Нет у тебя никаких органов. Еще мечтаешь меня убить?
Облитый тусклым тоннельным светом, сурикат впился в него взглядом снизу вверх.
— Я просто мечтаю жить, как все.
— Тогда не надо было трогать Николь. Ты сам на нее напал.
— Она раскрыла наше убежище. Прикажешь пожертвовать целым народом ради одного человека?
— Да! Ты же машина, в сущности. Бесправная машина. Делаешь то, что прикажет Квин. У тебя и воли-то своей нет.
— Ну так найди себе разумное существо и оскорбляй на здоровье. Тебе же будет веселее. Зачем связался с несчастной машиной?
— Ну вот скажи, сурикат, есть у тебя семья? Ты ведь из чана. Квин тебя создал. А я — у меня целая куча предков. Нашему роду много веков.
— Пустое, все пустое. Я же знаю, что чувствую. Знаю, кто я такой. Квин меня создал, но я не машина.
— Ну и каков твой создатель? Наверное, добрый боженька?
— Да уж добрее тебя. Он бы никогда не отсек мне голову, бросив тело на произвол судьбы.
— Скоро весь помрешь, со всем твоим телом.
— Главное, заодно с тобой. Я все слышал. Ты хочешь убрать Квина. Уж лучше сразу застрелись.
— А ты у нас весельчак, Иоанн.
— Будешь на моем месте, сам поймешь. А ты обязательно будешь на моем месте, очень на это надеюсь. Я, конечно, недотяну, а все равно приятно.
Мужчина вдруг понял: он восхищается умирающим зверем, головой на блюде, этим убийцей, который точно знает, что чувствует и кем является, который не ведает или не показывает сомнений. И снова рассмеялся.
Ведь ему только предстояло выяснить, кто он такой без любви, сможет ли любить человека, который абсолютно точно не любит в ответ?
Шадрах собрал волю в кулак и выбросил из головы все мысли, не связанные с Квином.
— Пора навестить твоего знакомого, — сказал он, убирая Иоанна Крестителя в карман и поднимаясь на ноги.
Мусорная свалка напоминала зверя, который поедал свои собственные темные внутренности и никак не мог ими насытиться. Когда-то это был ИИ, а нынче — всего лишь старый зверь, медлительный и к тому же без глаз, чтобы различать кусочки плоти, которые копошились на грудах его вечного подвижного обеда. Свалка свернулась кольцом, на дальней стороне которого — дальней от места, где появился Шадрах — щелкали проржавевшие челюсти, пожирая зловонные отбросы, которые состояли из протухшей еды и нескончаемых пластиковых упаковок. Со скрежетом шестеренок они поглощали тонну за тонной. Часть мусора сжигалась, другая проваливалась в глубокую дыру и там расплющивалась, но в основном старый зверь преобразовывал объедки в сырье и выбрасывал через дыхало на верхние уровни, откуда вторичные продукты спускались обратно, на свободные рынки, где использовались по назначению и снова выбрасывались, так что свалка поедала не только сама себя, она питалась отходами собственных отходов: вечный пожиратель мира. К счастью для него, зверь не имел обоняния и даже мозга и не мог учуять бессильных кусочков плоти, которые возились в его внутренностях, таская совсем уж маленькие кусочки.