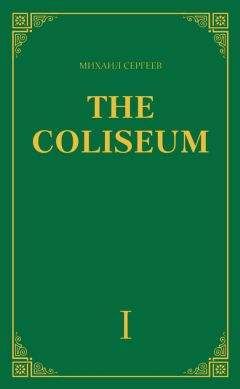– Понимаешь, Лена, что-то у вас с Андреем не выходит… – Борис Семенович встал, отошел к окну, притронулся к занавеске и, будто читая ее мысли, вздохнул.
– Не надо папа.
Елена, задумавшись, просматривала лист бумаги. Точнее, делала вид.
– Я знаю…
Он помолчал.
– Да что-то подсказывает мою вину в этом.
– Оставим… тем более, ты не прав.
– В последнем? – отец вернулся.
– Да, – Лена тоже встала, собираясь уйти.
Борис Семенович положил руку на ее плечо.
– Не обижайся. Мне и самому неприятно огорчать тебя разговором… да еще после… Забудь, прошу, о чем говорил только что…
Он опять умолк. Было слышно, как секундная стрелка часов на стене соглашалась с ним: так-так-так.
– Знаешь, есть вещи, которые запоминаются на всю жизнь, – голос стал совсем тихим, – однажды в молодости я увидел скульптуру Родена «Любовь убегает». Точнее, наброски к ней. – Руки снова опустились в карманы пиджака. – Удивительная штука жизнь… лишь через много лет я рассмотрел в набросках полноту отчаяния. Всю. И остался бы обделен, не будь в лирике Льва Болдова стихотворения на шедевр Родена… с таким же названием. Оба этой полнотой жили, разговаривали с ней… а она отвечала. Оба одинаково понимали, но, как оказалось, поодиночке не могли передать ее мне… всю, – взгляд остановился на картине напротив. – Я открыл для себя закон: человеку, чтобы увидеть талант художника, нужен кроме самого художника еще кто-то. Третья составляющая. Неважно дадут или найдется в себе самом. Но это и будет полнота. Та, настоящая…
– Угадаю конец мысли, – грустно заметила дочь, – нам с Андреем не хватает наставника? И это – ты? А я-то думала Андрею таланта и своего… – она отвернулась.
– В вашей ситуации не хватает, прости, тебе. А третьим, мне кажется… должен быть ребенок.
Елена оставалась неподвижной.
– Доча, послушай…
Она удивленно посмотрела на него. Отец впервые за много лет назвал ее так.
– Прости и выслушай меня…
Он обнял дорогое ему существо. Лена не отстранилась. Что-то трогательное из того, далекого детства, подступило к ней. Да и к трем одиноким людям.
Мать, которая слышала всё, смахнула слезу.
– Отвлекись. Я хочу кое-что рассказать тебе.
Отец погладил ее волосы.
– Отвлекись, родная… и присядь.
Диван уже без усталости, по-доброму скрипнул.
– Когда тебе было семь лет, а сам я не намного старше тебя сегодня, бабушка попросила поставить фильм «Комсомольцы-добровольцы»… времен ее молодости. В гостях у нас была Полина. Вы тихонько пристроились в углу и смотрели тоже. Никто бы ничего и не заметил, если бы не всхлипывания. Бабушка рассказывала, что вы плакали. Потом спрашивали, кто такие… комсомольцы. Говорили, что хотите быть такими же. Поразительно. Даже не слыша, не сталкиваясь с авторитарностью, на которую списаны все мыслимые беды человечества, не зная искаженной лидерами морали, вы увидели в картине то, чему никто не может помешать быть видимым. Если таковым его сделал автор. Через десятилетия художник донес свое сердце в точное по времени и месту событие. Оно отозвалось стуку ваших сердец. Почему такое возможно? Почему человек, о котором вы никогда и не услышите, был способен на такое? Среди смерти и горя? Ведь это не подвиг. Авторы были награждены тираном. И имели все блага. Ответ на вопрос я нашел много лет спустя… В поступках. Чем напористей зло сеет беды и горечь, тем настойчивее человек ищет другое, противное злу. Ибо изначально в нём существует только то… другое. Это у тебя впереди… – он споткнулся, сожалея об оговорке, – а зло – непрошенный гость. Стучащий, ломающий, рвущий нас. Но сколько бы ни рушило всё вокруг оно, сколько бы ни сеяло… Вовнутрь, в сердце к человеку ему не попасть, пока нет на то воли твоей. Упирается зло в стену. И те, кто не пустил, могут жить среди хаоса и смерти… среди тиранов, рядом с несчастными, сделавшими иной выбор. Полноценно жить! И прожить лучше, чем без ежедневного зла! Пример тому – Занусси. Тот же Шолохов, Распутин… А Бондарчук? Уже его «Война» и его «Мир»! – Борис Семенович поднял руки к потолку. – Вот где сходятся беда и чудо. Непостижимое чудо незаметного торжества… над бедой-то!
Лена сидела молча. Что-то подступило, поднялось к горлу. Ей вдруг захотелось стать маленькой-маленькой, как когда-то давным-давно. Перестать быть главной над кем-то и где-то. Есть мороженное, бегать в кино с подругами, дразнить мальчишек. Захотелось жить. Просто улыбаясь, просто радостью, которую неизменно и предательски крадут заботы.
– Так вот, – отец, почувствовал это и погладил ее снова. – В поступках героев не было никакой идеи. Были душа, человек и его мораль. Просто мораль та вызвала действия, которые по совпадению защищали не только человека, но и одно зло от другого. Потому как мораль! А вот показать это – уже талант. За что боролись, кого защищали – всё осталось позади, за кадром. Полагали, что зритель и так знает. Сейчас бы сказали – идеологический просчет. Раз тронул вас. Тронул не то будущее, на которое рассчитывало зло. – Он сглотнул, сдерживаясь. – Получается, при любом тиране настоящий талант вырастает неимоверно. А тирания – такое же препятствие, как и помощь. Некий эквивалент безденежью, безвестности. То есть несущественное, но существующее. Преодолимая необходимость. Более того, радость, как и ребенка – без страданий не получить. Я и творчество имею в виду. Но и полученное умрет, если уйдут страдания.
– Значит, без страданий радость умирает?! – Лена подняла голову.
– Да. Без страданий радость мертва. Беда – живая вода. Подозреваю, что пользы от нее гораздо больше, нежели вреда. Вот такой парадокс. Другими словами, талант всегда свободен именно на ту степень, которая ему желанна… необходима. Не будь пресса, особо не надрывался бы. Рваться ему надо, рваться. А в мире благополучия… там, – он кивнул в сторону, – куда собралась ты, талант к другому применению толкают. Бульдозером. Клещами тащат. – Отец выпрямился, посмотрел в окно и вдруг тихо добавил: – А Андрей талантлив. Я знаю.
– Я тоже, папа, – задумчиво ответила Лена. Так же, как то, что завтра у меня именины. – Она улыбнулась. – Интересно, кому бы ты всё это рассказывал, не будь у тебя такой дочери.
– Тогда уж скажу: ты не спала с гением, ты его терпела. И эта милость награждаема!
– Замечательно папа. Спасибо.
Она поцеловала отца, и прижала щёку к его плечу.
Пробило семь. Андрея не было. Где он – догадывался только Борис Семенович.
В кабинете мужа, у маленького письменного стола, Елена Борисовна, задумавшись, просидела около получаса. Она позволяла себе бывать здесь. В голову приходили мысли, которые ни в коей мере не могли помочь ей. Более того, их источала та область сознания, которая должна была быть выключенной в эти минуты. Наконец, хотя бы притвориться спящей после разговора с отцом. Так ей казалось. Того она желала. Женщина пыталась искать ответ в другом сознании, в другом приятии действительности. Но не находила не только такого приятия и сознания, но и само существование их выражалось уже в новом сомнении, побороть которое она была не в силах. Застывший взгляд, падая на стол перед нею, обычно не чувствовал предметов на нем, проходя насквозь. Удивленная стопка бумаг, небрежно оставленные книги не останавливали его, а те, привыкшие ко вниманию – лишь провожали взгляд долгим молчанием, понимая, что так и нужно. Но, касаясь книг, проходя через страницы, взгляд переставал быть собой, становясь чем-то другим. Отдаляясь от глаз, век Елены, открытых только затем, чтоб не дать появиться неизбежной темноте перед нею, он сканировал другое содержимое, лежащее глубже страниц – в душе авторов. Только при этом условии она могла думать, сопоставлять факты, делать выводы и чувствовать жизнь.