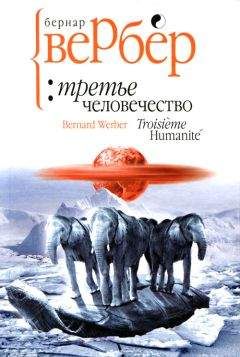Мы шли севером Италии. Целый год мы добирались до Константинополя. В июне 1097 года я участвовал в осаде Никеи, но через месяц турки сдались без боя, чем сильно меня разочаровали. Наш путь продолжился, при Дорилее [13] мы сразились с войском султана Рума. Там на меня обратил внимание сам Готфрид Бульонский [14]: я спас ему жизнь, оттолкнув в сторону, когда в него летела стрела. Он в знак признательности произвел меня в рыцари. У меня появилась лошадь, доспехи, хороший меч. В Киликии к нам присоединились армяне. В ноябре 1097 года мы начали осаду Антиохии, затянувшуюся до июня, когда мы, наконец, взяли город. Но ты все это и так знаешь. Короче, я перебил уйму турок и за два года крестового похода сочинил уйму стихов, пока не оказался под Иерусалимом в тот знаменательный день, когда повстречал тебя и оказался вместе с тобой в стенах этого священного города.
Удобно устроившись в кресле посреди своей квартиры в Сорбонне, Александр Ланжевен, весь дрожа от удовольствия, повествует о том, что испытал при погружении в прошлое. Инстинктивно он проводит ладонью по лицу, как будто запамятовал, какой формы у него голова.
Потом он опять набивает трубку, закуривает и выдыхает дым в сторону канделябра со свечами. Пламя пускается в пляс, отбрасывая на предметы в гостиной танцующие тени.
Рене Толедано позволяет Ланжевену вернуться в настоящее и снова осознать себя, не торопясь с вопросами. Через короткое время Александр сам возобновляет разговор:
– А ты, Рене? Какой была молодость твоего старинного «я»? Я слушаю.
Рене медленно пьет коньяк для увлажнения нёба.
– Захотев вспомнить детство Сальвена, я очутился в большом зале, за одним столом со своими четырьмя братьями и тремя сестрами. Всюду были расставлены большие подсвечники. Во главе стола сидел мой отец. У него за спиной виднелся наш семейный герб с кабаном. На другом конце стола, спиной к большому очагу, сидела моя мать. Ваш Гаспар, кажется, не знал своего отца и не имел дружной семьи, это, наверное, его и мучило. Я, наоборот, страдал от избытка внимания.
Мой папаша, граф де Бьенн, был крупной фигурой местного масштаба. Он был очень высок, но на все вокруг себя взирал с осуждением. Наша фамилия происходит от реки Бьенн, истоки которой находятся в горном массиве Юра. Наш замок стоял неподалеку от города Сен-Клод во Франш-Конте. Я задыхался в этом семействе, где был младшим из мальчиков. Отец считал меня слабым ребенком и неустанно осыпал упреками. Братья и сестры тоже надо мной насмехались. Отец дарил нам жеребят, маленьких мулов, пони, чтобы мы с самых ранних лет ездили верхом. Мы ездили на охоту, учились драться на мечах, но я отставал в физическом развитии. Зато меня привлекало чтение. Библию я обожал, считал фантастическим повествованием и зачитывался ею, как сейчас зачитываются научной фантастикой. Изгнание Адама и Евы из рая, вражда их сыновей, Каина и Авеля, Ной и Всемирный потоп, Вавилонская башня, тянущаяся к Богу, Содом и Гоморра, жена Лота, превращающаяся в соляной столп… Все эти сюжеты были неиссякаемыми источниками моих грез. Их действие разворачивалось в Израиле, поэтому я рвался туда, мечтал увидеть эти волшебные места, где рождались несчетные легенды.
Дома мне было неуютно. Я знал, что замок и земли вокруг достанутся в наследство только моему старшему брату. Нам, младшим, предстояло искать себе другие занятия. Как я уже сказал, я был среди них самым неловким. Мать всегда за меня заступалась, называя хрупким ребенком. Отец в ответ на это твердил: «Тем хуже для этого неудачника, сделаем из него кюре».
И вот в возрасте пятнадцати лет я оказался в аббатстве Люксёй на юге Вогезов, располагавшем, на мое счастье, богатейшей в стране библиотекой, где хранились рукописи многовековой давности. Там я освоил древнееврейский язык, чтобы читать Библию в оригинале.
В те времена, как вам известно, рукописи были величайшей редкостью и стоили головокружительно дорого. В Люксёе книжные полки гнулись под их тяжестью. Отцы-настоятели, заметив мою страсть к этим произведениям, предложили мне стать монахом-переписчиком. Я целыми днями просиживал в скриптории. Нас таких там набиралось до двух десятков.
Занимаясь раскраской иллюстраций, я часто перебарщивал с цветами. Хороший копировщик экономит чернила, хотя и в меру. У меня не получалось набрать на кончик гусиного пера ровно столько, сколько нужно, поэтому часто выходила мазня, я ставил кляксы, и главный хранитель библиотеки, вечно на всех кричавший, заставлял меня все переделывать.
Он строго следил за расходованием материалов. Чернила, пергамент, переплеты считались большой ценностью, их следовало использовать рачительно. Пропустить один-единственный знак или нечетко его прописать считалось серьезным проступком. Более одаренные получали доступ к редким материалам – порошку лазурита и чистому золоту.
Кто посочувствует одиночеству монахов-копиистов с трясущимися руками? На них обрушиваются упреки. Их все чаще отстраняют от работы, в конце концов им приходится довольствоваться выскабливанием старых пергаментов для вторичного использования. Меня занимало содержание рукописей, а не их внешний вид. Вечерами я посвящал долгие часы чтению, причем не только священных текстов, но и древнегреческих и древнеримских авторов. Моим любимцем был Лукиан из Самосаты, грек, живший во II веке н. э., которого я случайно обнаружил на полке библиотеки. В его сочинении «Правдивая история» описан полет на Луну и бой с инопланетянами, похожими на гигантских пауков.
– Писатель-фантаст римской эпохи? – удивляется Александр.
– Во всяком случае, он подействовал на меня вдохновляюще. Я либо читал этих авторов, либо сочинял собственные безумные истории о космических сражениях в манере Лукиана. По сравнению с этим творчеством коллективные молитвы навевали на меня скуку. Что за интерес в ежедневном повторении и заучивании наизусть молитв, ровно ничего для меня не значивших? В один прекрасный день все это так мне надоело, что я покинул аббатство. К счастью, оно не было тюрьмой. Монахи не пустились за мной в погоню. Для них проживание в таком святом месте было привилегией. Там были кормежка, кров, безопасность, доступ к богатой библиотеке. Раз я не смог оценить все эти достоинства, значит, я был их недостоин. Для них я был неблагодарным глупцом, и они больше не приняли бы меня, если бы я передумал. Я стал скитаться по соседним деревням. На мне еще было монашеское одеяние, и мне охотно подавали милостыню. Я освоился с попрошайничеством. Случалось, на меня нападали одноногие и однорукие нищие, видевшие во мне ряженого, хитрого конкурента. Не переживи я этого сам, я бы не знал, какое яростное соперничество существует среди нищих. У каждого из них своя строго ограниченная