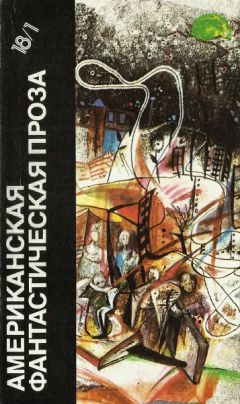Правда металась в моей голове, кричала каждой фиброй моей души и тела, но никак не могла сорваться с языка. Мои крики словно были заперты внутри меня.
Время шло. Скоро этот час закончится. Я вот-вот упущу свой шанс сказать то, что нужно, что надо было сказать, когда он был жив и ходил по земле много-много лет назад.
Где-то на другом конце сельских полей колокола пробили половину первого часа этого рождественского утра. Христос отмерял мгновения на ветру. Время и холод, холод и время, как падающие хлопья снега, ложились на мое лицо.
«Зачем? — спрашивали отцовские глаза, — зачем ты привел меня сюда?»
— Я… — начал я, но осекся.
Потому что его рука вдруг сжала мою. По его лицу я понял: он сам нашел причину.
Это был и его шанс тоже, его последний час, чтобы сказать то, что следовало сказать, когда мне было двенадцать, или четырнадцать, или двадцать шесть. И не важно, что я стоял, словно набрав в рот воды. 3десь, среди падающего снега, он мог найти для себя примирение и свой путь.
Его рот приоткрылся. Как трудно, как мучительно трудно было ему выдавить из себя эти старые слова. Лишь дух внутри истлевшей плоти еще отважно цеплялся за жизнь и ловил воздух. Он прошептал три слова, которые тут же унес ветер.
— Что? — изо всех сил прислушался я.
Он крепко обнял меня, стараясь держать глаза открытыми, борясь с ночной метелью. Ему хотелось спать, но прежде его рот открылся, исторгнув прерывистый свистящий шепот:
— Я… юб-б-б-б-б-б… бя-я-я-я-я-я!..
Он замолк, задрожал, напрягся всем телом и попытался, тщетно, выкрикнуть снова:
— Я… лю-ю-ю-ю-ю-ю-ю… б-б-б-б… я-я-я-яя-я-я!
— О отец! — воскликнул я. — Позволь, я скажу это за тебя!
Он стоял неподвижно и ждал.
— Ты пытался сказать: я… люблю… тебя?
— Д-д-д-да-а-а-а-а!.. — крикнул он. И наконец у него совсем ясно вырвалось: — О да!
— О отец, — произнес я, обезумев от печали и счастья, от радости и утраты. — О папа, милый папа, я тоже тебя люблю!
Мы прижались друг к другу. И стояли, крепко обнявшись.
Я плакал.
И вдруг увидел, как из этого высохшего колодца, из глубины страшной плоти моего отца выдавились несколько слезинок и, задрожав, заблестели на его веках.
Так был задан последний вопрос и получен последний ответ.
Зачем ты привел меня сюда?
Зачем это желание, зачем этот дар, зачем эта снежная ночь?
Потому что нам надо было сказать, прежде чем навсегда закроется дверь, то, что мы никогда не говорили друг другу при жизни.
И теперь слова были сказаны, и мы стояли обнявшись посреди этой глуши: отец и сын, сын и отец — две части одного целого, вдруг обернувшегося радостью.
Слезы на моих щеках превращались в лед.
Мы долго стояли на холодном ветру, под снегопадом, пока не услышали, как колокола пробили три четверти первого, а мы все стояли в снежной ночи, не говоря больше ни слова — все было сказано, — пока наконец не истек наш час.
И над всем белым миром часы, пробившие первый час этого рождественского утра, когда новорожденный Христос лежал на чистой соломе, возвестили конец того дара, что так быстро ускользнул из наших онемевших рук.
Мой отец держал меня в своих объятиях.
Последний звук колокола замер вдали.
Я почувствовал, как отец отступил от меня, но уже легко.
Его пальцы коснулись моей щеки.
Я услышал его удаляющиеся шаги по снегу.
Звук его шагов замер вместе с последним плачем внутри меня.
Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как он идет уже метрах в ста от меня. Он обернулся и махнул мне рукой.
Завеса снега опустилась над ним.
«Как смело, — подумал я, — идешь ты сейчас туда, старик, не жалуясь».
И зашагал в город.
Я выпил с Чарли, сидя у огня. Он посмотрел на мое лицо и поднял молчаливый тост за то, что прочел на нем.
Наверху меня ждала постель, похожая на огромный белый сугроб.
Снегопад за моим окном простирался на тысячу миль к северу, пять тысяч миль к востоку, две тысячи миль к западу и сотню миль к югу. Снег заметал все и вся. И две цепочки следов на окраине города: одна вела в город, другая терялась среди могил.
Я лежал в своей снежной постели и вспоминал лицо отца, когда он помахал мне рукой, а потом повернулся и пошел прочь.
Это было лицо самого молодого, самого счастливого человека, какого я когда-либо видел.
И тогда я уснул и перестал плакать.