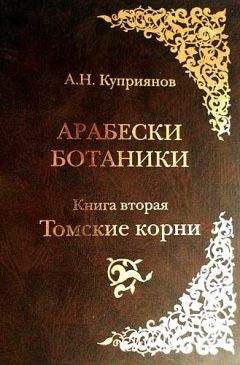— Пленен вашим умом и тонкой образованностью. Сегодня беседовал с вами — и счастлив на всю жизнь, — доктор Накао с трудом припомнил несколько любезных китайских выражений. Собственно, он хотел сказать, что его все устраивает.
"Весь вечер и весь следующий день Ли Сяо-яо работал над пьесой, — писал Итимура в своих записках. — В это время Ивахара и Идзуми держали отвоеванный рубеж. Доктор Накао с небольшой группой мотоциклистов, сложив в сумки у сиденья харлея ритуальные принадлежности, под охраной отряда Кентаро на сутки укатил в святилище Нюйва. По дороге их, разумеется, обстреляли. Там он выложил пентаграмму и что-то жег в ее центре, пока сам не загорелся — вернулся с обгоревшим рукавом, весь насквозь пропахший дымом от курительных палочек. Никому ничего не говоря, сел читать готовую пьесу Ли Сяо-яо. Оторвавшись от чтения, он распорядился, чтобы я сопровождал его на рынок. Пройдя там быстрым шагом между рядов, он нашел толпу разговорчивых старух и поинтересовался у них судьбой некого Фань Юй-си. Узнал, что тот пропал на войне, скорее всего, погиб. То ли бомба попала в грузовик, то ли грузовик попал под обстрел. Многие видели, как от грузовика, где среди прочих ехал в кузове и Фань Юй-си, остались одни ошметки. Доктор Накао — замкнутый и чрезвычайно хладнокровный человек, но когда мы возвращались с рынка, мне показалось, что он в восторге. "Я рассчитывал, что Ли Сяо-яо намарает дешевую, корявенькую деревенскую пьеску, наподобие ярмарочных сценок. Бывает с расчетом, что он промахнется мимо цели на целый ри. Даже проговорив с ним вечер, я почитал Ли Сяо-яо маленьким человеком. Но, кажется, он из ученых лиц и ученых до такой степени, что мне неловко. Гораздо лучше меня он знает, как показать возможности театра. Фань Юй-си, по всей видимости, пропал бесследно и едва ли жив. Но он — один из персонажей нашей пьесы"".
"Ли Сяо-яо зажег множество светильников по всему дому. На одолженные деньги он сумел привести главную залу в большой порядок. Окно было затянуто новой бумагой. До ширмы театра, установленной на сундук у западной стены, я насчитал более двадцати шагов. "При первом посещении это была комната в шесть татами, — бросил мне через плечо господин Аоки. — Откуда здесь двадцать шагов?". Конечно, в первый раз было так сумрачно, что нельзя было и разглядеть углов. Хозяин дома возился около сундука с театром, в одежде хоть и самой скромной, но все же для него, вероятно, нарядной.
Вся верхушка китайского отделения "Курама Тэнгу" в парадной униформе прошла в дом. Накадзима Хидэки отступил в противоположный конец комнаты, чтобы сделать фотографию. Все стояли и ждали. Все величие Японской Империи в каком-то смысле сосредоточилось сейчас здесь, в этих фигурах. На темно-синем кимоно доктора Накао Рюити выделялась, помимо вышивки — белых хризантем на рукавах, белая лапка каппы. Невозможно было объяснить смертельную бледность Аоки Харухико, — как я не могу объяснить ее и сейчас, когда он покинул этот мир. Так странно уйти, когда мы близки к полной и абсолютной победе. Он стоял с выражением мучительного сосредоточения, пока делались снимки для истории, затем, едва начался спектакль, не заговорив ни с кем и не дав никому никаких объяснений, прошел к задней двери, вышел во двор и покончил с собой. Он не счел нужным написать стихотворение смерти.
Господина Аоки очень жаль. Ведь у него там семьдесят пять морд во дворе. Кто же будет кормить их всех? Семьдесят пять грустных лисьих морд… Как подумаю об этом, щемит сердце.
Полковник Кавасаки открыл церемонию проверки Императорского театра теней и обратился к китайской стороне в лице Ли Сяо-яо.
— Детали нашей сделки будут сохранены в тайне. Вам следует благодарность от японского правительства…
Лейтенант Хитоми стоял рядом и переводил его слова.
— Не надо благодарности, — сказал вдруг Ли Сяо-яо, упав на колени. — Я совершаю преступление.
— Прошу простить нас за эту бестактность, — неожиданно твердо сказал доктор Накао Рюити, выступив вперед. Полковник Кавасаки с застывшим выражением лица смотрел, как Ли Сяо-яо поднимается с пола.
Доктор Накао Рюити сел на циновку, выпрямился и устремил взгляд на ширму. Ли Сяо-яо сделал знак мальчику-музыканту в углу, и тот взял в руки какой-то инструмент наподобие бива. Спектакль начался".
Перевод Саюри пестрил недостатками, однако Вэй Сюэли привык понимать ее. Сказав про "грустные лица лисиц", Саюри остановилась.
— Мне никак не понятна смерть Аоки. Ты понимаешь?
— Да, — сказал Сюэли. — Если я и понимаю что-нибудь поистине великолепно, так это причину самоубийства Аоки. Логичнейший поступок.
— Почему литературно образованный и утонченный человек, как Аоки, не стал писать дзисэй? Это кажется странно.
— Не было у него времени. И в стихотворении он невольно выдал бы то, о чем хотел промолчать. А так — это равноценно полному молчанию.
— Если он заметил что-то, заподозрил хозяина дома, должен был сразу сообщить. Вдруг понял он, что театр, может быть, ненастоящий, устыдился своей ошибки — все же должен был сразу сообщить. Почему никому не сказал?
— А он не заметил никаких ошибок. Он не усомнился в подлинности театра. Если бы его что-то насторожило в самом театре или в действиях Ли Сяо-яо, он действительно согласно субординации должен был бы сообщить доктору Накао. Нет. Он не совершил вообще никакой ошибки. Ни одной. За это он мне даже нравится. Совсем немного, — уточнил Сюэли.
— Он, как всегда, сказал, что все японцы во время войны должны были просто быстренько покончить с собой, потому что они японцы. И кто скорее других это сделал, того он одобряет, — говорила потом надувшись Саюри.
Это была неправда. Сюэли так не думал и ничего такого не говорил.
— …Какой же Аоки хороший человек…, - сказал задумчиво Ди, услышав все это позже, уже в пересказе Сюэли. Ди был вторым, кто сразу понял, что случилось с Аоки Харухико.
"Перед началом нам было прочтено с листа содержание пьесы. Позже я выпросил этот лист у доктора Накао и переношу сюда все, что он в себе заключал.
Цветы корицы, аромат сливы
Почтенный Цао задумал женить своего покойного сына, чтобы тому не было одиноко в загробном мире. Чтобы осуществить эту достойную мысль, он пошел поговорить со своими соседями, бедняками по фамилии Мэй, и посватать их дочь Цянь-юй за своего умершего наследника. Здесь содержалась она загвоздка: их дочь была еще жива, то есть ее следовало умертвить, однако, как мы знаем, такие примеры в истории бывали. Почтенный Цао, предложив очень хорошие деньги за сделку, сказал семье Мэй: "У вас Цянь-юй все равно умрет с голоду. А так, подумайте, табличка с ее именем будет вечно храниться в родовом храме семьи Цао, среди табличек с именами моих предков. Это ли не честь для вас?". Нужно заметить еще, что у девушки был уже любимый, Фань Юй-си. Но он незадолго до того пропал на войне, и мало было надежды, что он вернется. Кто-то из односельчан видел, как подорвался на мине грузовик, где был вместе с другими и Фань Юй-си, так что, по всей вероятности, он все же погиб.