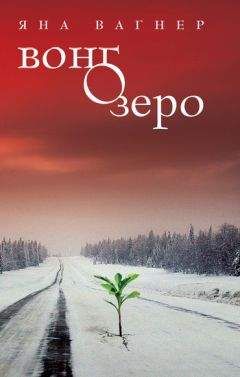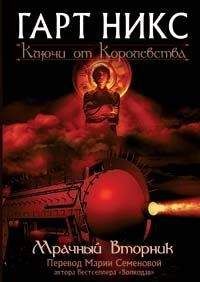— Это уже второй такой город. Мы не сразу поняли — карантина нет, но ты посмотри вокруг, — отозвался он, и я тут же, как будто мне нужна была только эта небольшая подсказка, прочитала все знаки, которые до этого просто смутно тревожили меня: нечищеные улицы, заколоченные окна, люди с санками, длинные, тяжелые мешки, укутанные лица и тишина — неестественная, звенящая, нарушаемая единственным звуком — монотонным, с одинаковыми интервалами звоном, доносящимся откуда-то спереди, из-за невысоких, коренастых домов.
Очень скоро мы поравнялись с источником этого звука — справа от дороги, между домами на короткое время распахнулся просвет, в котором видно было небольшую площадь — широкое, пустое место, окруженное невысокими каменными домами; мелькнул обязательный памятник Ленину, серо-белый, со снежными погонами на плечах, но где-то там, на площади, стояла еще и церковь — ее не было видно целиком, но из-за домов виднелись пять сине-зеленых, тоже припорошенных снегом круглых церковных голов и, отдельно, остроконечная звонница. Именно туда, на эту площадь, и сворачивал редкий, неплотный поток людей с санками; я успела только заметить невысокую, плотную груду темных мешков, сложенных как попало прямо на снегу, и человеческую фигуру в черном, стоящую отдельно, возле наспех сколоченного деревянного помоста, к которому был подвешен продолговатый кусок железа — широко, деловито размахиваясь, человек в черном методично ударял по нему чем-то тяжелым. Площадь мелькнула и исчезла, но звон был слышен еще какое-то время; мы миновали несколько съездов на боковые улицы, и теперь я увидела, что некоторые из них покрыты нетронутым, ровным слоем снега — не было ни единого человеческого следа от дороги, по которой мы ехали, и до самого горизонта, куда доставал глаз.
— Как же так, — сказала я, — получается, их просто бросили? Ни карантина, ни санитарных машин — ничего?
— Не смотри, Аня, — отозвался папа, — сейчас все кончится, мы почти снаружи. — Витара еще раз повернула, и засыпанный снегом город, невысокий, розовый с голубым, весь оказался справа — со своими церквями, прозрачным воздухом и пустыми улицами, а потом исчез совсем — просто остался позади, и не хотелось оборачиваться, чтобы взглянуть на него еще раз. Сразу после перечеркнутой таблички с надписью «Устюжна», спокойно припаркованный у обочины, стоял Сережин Паджеро — покрытые полупрозрачным инеем задние стекла, небольшой дымок из выхлопной трубы. Когда мы поравнялись с ним, он затарахтел, выехал обратно на дорогу и пристроился в самом конце, за Лендкрузером и серебристым пикапом.
Тем, кто жил здесь, вероятно, было уже не до засыпанной снегом дороги — снега было немного, сантиметров пятнадцать-двадцать, но лежал он неровными, смерзшимися комками, словно начал таять и тут же снова замерз; Витара, снова оказавшаяся первой в колонне, ползла медленно, с трудом переваливаясь с одной снежной кочки на другую. Мы проехали метров сто, не больше, когда папа, чертыхнувшись, снова потянулся за рацией:
— Эй, на пикапе, давайте вы вперед, дорогу прокладывать, вы потяжелее.
— Есть, Андреич, — отозвался Андрей немедленно и даже, пожалуй, весело — пикап, громыхая прицепом, легко обогнал нас и поехал впереди, оставляя после себя полоску утрамбованного, плотного снега, по которому двигаться сразу же стало значительно легче. Я удивленно взглянула на папу, а разговор продолжался:
— Что там у тебя на навигаторе, Андрюха, скоро поворот?
— Километров через пятнадцать, — ответил «Андрюха», — и потом еще сто километров спокойной дороги, почти все деревни в стороне от трассы, Череповец объезжаем по широкому кругу, а вот за ним уже будет посложнее. Я бы заранее где-нибудь остановился топлива долить, чтобы дальше уже без остановок, ты как?
— Мысль, — сказал папа одобрительно, — давай не доезжая до Череповца, мало ли что там, в окрестностях, город большой.
Что-то явно произошло между ними, пока я спала, пока спал Сережа; оставаясь на связи друг с другом, эти двое мужчин как-то сумели договориться, и в разговоре не чувствовалось больше никакой напряженности. Перехватив мой взгляд, папа коротко улыбнулся:
— Нормальный мужик, хорошо, что мы его встретили. И запасливый — лодка у него с собой резиновая, сеть, снасти — я бы и то, пожалуй, лучше не собрался, — а потом, взглянув на меня, добавил: — Ты как? Отдохнула? Смотри, если надо выйти — давай тут где-нибудь тормознем.
Я взглянула за окно — проплывающий мимо заснеженный, залитый закатным солнцем ельник постепенно начинал редеть и в эту минуту весь уже остался позади, а вместо него по обеим от дороги сторонам стелилось широкое, пустое и пышное, как пуховое одеяло, бело-голубое пространство с редко торчащими голыми шариками кустов. Место для стоянки было неподходящее — впереди, чуть правее, уже блестели разномастные железные крыши деревенских домов, и от этих крыш вверх поднимался дым — нестрашный и мирный дым из печных труб. В этом месте дорога раздваивалась, и узкая ее часть, обсаженная деревьями, уходила вправо, в сторону деревни с крышами и дымящими трубами; поперек, занимая все пространство между деревьями и полностью загораживая проезд, внутри широкого, закопченного и бесснежного пятна торчали две сгоревшие машины, совершенно неуместные посреди всего этого белого спокойствия.
Эти машины сожгли давно — как минимум несколько дней назад; все уже остыло, и никакого дыма не было. Уже нельзя было угадать, какого они были цвета раньше — два одинаковых, серо-черных, покрытых то ли пеплом, то ли инеем изуродованных остова без стекол, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одного из них был открыт капот, обнажая обугленные внутренности, а у второго почему-то остались целы обе передние фары. Если бы машина была одна, все это, пожалуй, было похоже скорее на несчастный случай, аварию; но то, как они аккуратно, спокойно стояли мордами друг к другу, не оставляло никаких сомнений — люди, живущие в этой деревне, привезли их сюда нарочно, а потом облили бензином и подожгли — я представила себе, как они стоят вокруг с отблесками огня на лицах, отступая от разгорающегося огня и вздрагивая, когда от жара начинают лопаться стекла — возможно, еще несколько дней назад обе эти машины стояли у кого-нибудь под навесом, заботливо очищенные от снега, с обязательными иконками и свисающими с зеркал мягкими игрушками, но решение было принято — и они сгорели; ритуальная жертва, последняя возможность для их хозяев спастись от приближающейся опасности.
— Настоящая баррикада, — сказал папа, когда мы проехали мимо, — не поможет, конечно, разве что задержит ненадолго. Кому надо будет — полем доберется.