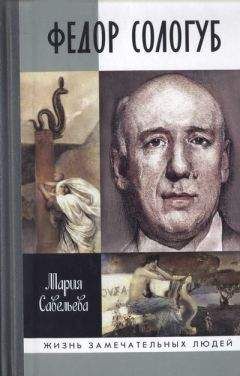— Дайте, господа, бедному человеку на хлеб.
Триродов досадливо нахмурился и, не глядя на попрошайку, вынул из маленького кармана своей тужурки серебряную монету. В его карманах всегда запасена была мелочь, — на случай неожиданных встреч. Оборванец усмехнулся, повертел монету, подбросил ее, ловко спрятал в карман, и сказал:
— Покорнейше благодарю ваше сиятельное благородие. Дай вам Бог доброго здоровья, богатую жену и в делах верного успеха. Только я вам вот что скажу.
Он замолчал, и смотрел с миною важною и значительною. Триродов нахмурился еще сильнее, и спросил угрюмо:
— Что же вы хотите мне сказать?
Оборванец сказал явно издевающимся голосом:
— А вот что. Книжку вы читали, милые господа, да не ту.
Он засмеялся жалким, наглым смехом. Точно трусливая собака залаяла хрипло, нагло и боязливо.
Триродов переспросил с удивлением:
— Не ту? Почему это?
Оборванец говорил, делая нелепые жесты, и казалось, что он может говорить хорошо и красиво, но притворяется нарочно неотесанным и глупым:
— Слушал я вас долго. Тут за кустиком. Спал, признаться, — да вы пришли, залопотали, разбудили. Хорошо читала барышня. Внятно и жалостно. Сразу видно, что от души. А только не нравится мне содержание, а также все прочее в этой книжке.
— Почему не нравится? — спокойно спросила Елисавета.
— По-моему, — говорил оборванец, — не тот фасон, какой вам требуется. Не к лицу вам все это.
— Какую же нам надо книгу читать? — спросила Елисавета.
Она слегка улыбалась, словно нехотя. Оборванец присел на один из ближних пней, и отвечал неторопливо:
— Да не вам одним только, почтенные господа, а всем вообще, которые в щиблетах лакированных да в атласных платьях щеголяют, да на нашу братью поплевывают.
— Какую же книгу? — опять спросила Елисавета.
— Вы Евангелие почитайте, — сказал оборванец.
Он внимательно и строго посмотрел на Елисавету, — всю ее фигуру обвел внимательным взором, от зарумянившегося лица до ног.
— Зачем Евангелие? — спросил Триродов.
Он вдруг стал очень угрюм. Казалось, соображал что-то, и не решался, и томительна была нерешимость. Оборванец отвечал неторопливо:
— А вот затем, что знаете все очень верно. Мы в раю будем посиживать, а из вас черти в аду жилы тянуть станут. А мы будем на это прохладно смотреть да в ладошки весело хлопать. Занятно будет.
Оборванец захохотал хрипло и громко, но не радостно, точно притворно. Хохот его казался гнусным, ползучим. Елисавета вздрогнула. Она сказала укоризненно:
— Какой вы злой! Зачем вы это?
Оборванец сердито глянул на нее, всмотрелся в ее синие, глубокие глаза, потом опять широко улыбнулся, и сказал:
— Что там злой! Вы, небось, добрые? Злой не злой, — надо быть справедливым. Только я тебя, барин, люблю, — обратился он вдруг к Триродову.
Триродов усмехнулся легонько, и сказал:
— Спасибо на добром слове, а только за что вам любить меня?
Он смотрел внимательно на оборванца. Вдруг ему стало страшно и тоскливо, и он опустил глаза. Оборванец не спеша закурил вонючую трубку, затянулся, помолчал, и заговорил опять:
— У других господ хари все больше веселые, точно он тебе сейчас только блин со сметаною стрескали, или дядюшкино завещание благополучно подделали. А у тебя, барин, завсегда рожа постная. Уже это я за тобою давно приметил. Видно, что-нибудь есть у тебя на душе. Не без того, что уголовщина.
Триродов молчал. Он приподнялся на локте, и смотрел прямо в глаза оборванца, пристально, со странным выражением немигающих, повелевающих, упорных глаз.
Оборванец замолчал, точно застыл на минуту. Потом он вдруг заторопился, точно испугался чего-то. Ежась и горбясь, он снял свою шапчонку, обнажая нечесаную, лохматую голову, забормотал что-то, шмыгнул в кусты, и скрылся тихо, — как лесная фея.
Триродов мрачно смотрел вслед за ним, — взором, завораживающим лесные тихие тайны. Он молчал. Казалось Елисавете, что он намеренно не смотрит на нее. Елисавета была страшно смущена. Но, делая над собою быстрое усилие, она засмеялась, и сказала притворно весело:
— Какой странный!
Триродов перевел на нее печальные взоры. Он тихо сказал:
— Говорит, точно знает. Говорит, точно видит. Но никто не может знать того, что было.
Ах, если бы знать! Если бы можно было изменить то, что было!
Опять припоминалась Триродову в эти дни темная история с отцом Петра Матова. В эту историю Триродов неосторожно впутался, и она теперь заставляла его считаться с шантажистом Островым.
Отец Петра, Дмитрий Матов, попался в сети, которые он сам расставлял для других. Дмитрий Матов втерся в тайный революционный кружок. Там скоро узнали как-то о его сношениях с полицией, и решили его уличить и убить.
Один из членов кружка, молодой врач Луницын, взял на себя роль изменника. Он обещал Дмитрию Матову, что вручит ему важные документы, уличающие многих. Сторговались за не очень крупную сумму. Место свидания для обмена этих документов на деньги назначили в небольшом местечке вблизи того города, где жил тогда Триродов.
В назначенный час Дмитрий Матов вышел из вагона железной дороги на той станции, где условлена была встреча. Был поздний вечер. Дмитрий Матов был в синих очках, с привязанною бородою, — так условились. Луницын ждал его за несколько шагов от станции, и провел в дом, нарочно для этого нанятый в очень уединенной местности.
Там уже был приготовлен ужин. Дмитрий Матов ел с удовольствием, и пил много вина. Его собеседник фантазировал что-то о будто бы готовящихся покушениях. Матов мало-помалу разоткровенничался, и принялся хвастливо рассказывать о своих связях с полицией, и о том, как уже многих и как ловко он выдал.
Дверь в соседнюю комнату была задрапирована обоями. В этой комнате таились трое. Триродов, Остров и молодой рабочий Кровлин. Они подслушивали. Кровлин был сильно взволнован и возмущен. Он вполголоса повторял с негодованием.
— Ах, негодяй! Какой мерзавец!
Остров и Триродов кое-как унимали его. Говорили:
— Молчите. Пусть он все выболтает.
Наконец наглость Дмитрия Матова вывела Кровлина из терпения. Он выбежал из своей засады, и закричал:
— Так вот как! Ты выдаешь наших полиции! Сам сознаешься!
Дмитрий Матов позеленел от испуга. Он закричал своему собеседнику.
— Убейте его. Он нас подслушивал. Стреляйте скорее. Его нельзя оставить. Он нас обоих выдаст.
В это время вышли еще двое. Луницын, направив револьвер прямо в лоб Дмитрию Матову, спросил:
— Кого же убивать, предатель?
Понял тогда Дмитрий Матов, что он попался. Но он еще попытался вывернуться, призвав на помощь всю свою ловкость, и все свое нахальство. Дмитрия Матова уличали в предательстве. Он сначала оправдывался. Говорил, что он только обманывал полицию, что он вошел с полицейскими в сношения, чтобы узнавать полезные для товарищей сведения. Но лживые слова его тускнели быстро. Тогда он стал умолять о пощаде. Говорил что-то о жене своей, о детях.