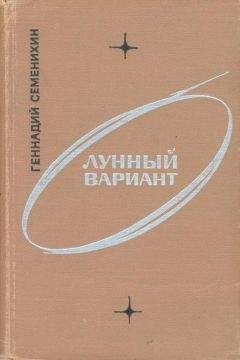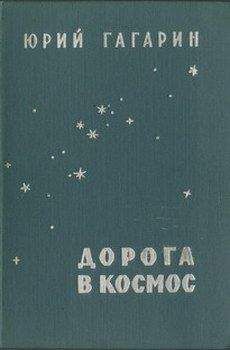— Товарищ генерал, взлетать вы будете или я поведу?
— Сам поведу. На правом сиденье посидишь, — беспрекословно отрезал Саврасов и вновь обернулся к Субботину: — Ну так что, «блондин», как тебя именуют в отряде? Если верить моему другу Сережке Мочалову, а вашему «бате», будем считать, что проблема двух поколений в космонавтике и авиации решена?
— Решена, товарищ генерал, — дружно засмеялись космонавты.
Саврасов подошел к трапу, остановился у нижней ступеньки.
— Возможно, хотите в Москву что-либо передать?
— Нашему генералу Мочалову по сердечному привету.
— Обеспечу, — пробасил Саврасов. — Сережку обязательно увижу на совещании у главкома. Ну а теперь прощайтесь с прессой, будем запускать движки и выруливать.
Ножиков, Костров и Субботин тискали Рогова в объятиях, целовали кто в щеку, кто в лоб, кто в затылок, так что у растроганного Лени в конце концов навернулись на глаза непрошеные слезинки.
След человека в жизни и след инверсии, оставленный в небесной вышине пролетевшим самолетом, — какая меж ними разница! Длинный пушистый хвост не сразу гаснет на голубом фоне. Освещенный солнцем, впечатывается он в небо и, причудливо изгибаясь, широким концом своим повисает над землей. Нет, он не похож на змею, потому что ничего в нем нет хищного. И на гигантский шарф не похож, потому что нежнее и тоньше. Ласковый след инверсии, оставленный над нами гудящим самолетом, способен приковать к себе взор влюбленного мечтателя или художника, да и любого человека, остановившегося на минутку и залюбовавшегося небом. Многие мастера кисти пытались передать на холсте всю невыразимую словами поэтическую прелесть следа инверсии. Но есть один изъян в этом еще не до конца изученном явлении. След инверсии недолговечен. Пройдет десяток минут — и белая полоса начнет пухнуть, слабеть, постепенно исчезая. И кто через час или два посмотрит на небо, уже совершенно чистое от инверсии, едва ли вспомнит о ней.
А след человека, уверенным и упорным шагом идущего по жизни? Он же совсем иной. Он глубокий и вечный. Время очень нескоро стирает следы его жизни, потому что рассказы о человеке, его подвигах и труде живут долго. А бывает, что сделанное умом и руками его остается с нами навечно. И даже после того, когда сомкнул он навсегда веки и, оплакиваемый родными и друзьями, был предан земле, построенные города, заводы, станки или дороги, сделанные им открытия или написанные книги — долго служат людям.
И еще одно непременно — те, кто получают в собственность след человека, не всегда стремятся узнать о самом творце много. Был он счастливым на земле или нет, любимым или отвергнутым, одиноким или обласканным многочисленными друзьями? Терпел ли бедствия или жил в достатке? Подвергался ли несправедливым обидам или провел свои годы в почете и славе? Все это чаще умирает с человеком. И в жизни только след от его труда остается, потому что он нетленен.
* * *
Тред-бан — это бегущая дорожка. Она похожа на обыкновенный эскалатор, лента которого тянется не сверху вниз, а горизонтально. Только скорость, с какой тянется лента, другая, непосильная для обыкновенного пешехода. В комнате, отданной под этот тренажер, в цементном полу прорублена не очень длинная, метра в два с половиной дорожка, и сквозь нее бежит стремительно серая лента. Чтобы космонавт, выполняющий упражнение, не соскользнул с бегущей дорожки и не упал на цементный пол, его для страховки привязывают специальными ремнями, свисающими с потолка. В Степновске кроме барокамеры, качелей Хилова и крутящегося кресла тред-бан был одним из главных тренажеров, обязательных для всех, кто входил в группу полковника Нелидова.
— Парашютные прыжки плюс тред-бан — вот и вся ваша основная подготовка в этом месяце, — говорил замполит.
Занятиями на бегущей дорожке руководил худощавый остроскулый начфиз Баринов. Под солнцем Степновска он отменно загорел, стал похож на раджу. Он становился сбоку, когда космонавт был полностью подготовлен для тренировки, засекал время, включал рубильник. Гофрированная лента стремительно бросалась под ноги, и надо было затрачивать дьявольски много усилий, чтобы бежать ей навстречу и ни разу не споткнуться. А споткнешься — мгновенно повиснешь на ремнях.
Рано утром Олег Локтев, Игорь Дремов и Алексей Горелов пришли на бегущую дорожку. Загорелый Баринов и белокурая лаборантка Соня уже поджидали их.
— Как отдыхали, товарищи? Самочувствие, настроение? Не было ли головных болей? Не приходил ли к кому-нибудь кум повечерять с горилкой? — задавал Баринов стереотипные вопросы и получал на них односложное: «хорошо», «в порядке», «нет». Потом на дорожку встал тяжелый Локтев и огромными ручищами бывшего боксера потрогал страховочные ремни.
— Выдержат, — усмехнулся Дремов. — Даже такого мамонта, как ты.
— Верно, мамонт, — согласился Локтев. — Как бы мне, Игорь, килограммчиков пять-шесть сбросить? Не посоветуешь ли?
— Влюбись, — сощурился Дремов, и прямой с горбинкой нос его дрогнул от плохо сдерживаемого смеха.
— Так ведь жена дома, — пробасил Локтев, — а замполит, Павел Иванович, рядом. Того и гляди, дело на парткомиссию оформит за «аморалку». Да и Сережа Ножиков, наш партийный бог, крут по этой части. Так возьмутся…
— Что ты не на шесть, а на десять похудеешь!
— Оно бы неплохо и на десять. Но ведь чтобы влюбиться, надо найти объект. Я же кадра подходящего не вижу.
— Кадр я тебе выбрать помогу, — усмехнулся Дремов и подбоченился. — Лидию Степановну знаешь?
На полном красноватом лице Локтева голубые девичьи глаза наивно расширились.
— Какую еще Лидию Степановну?
— Дежурную администраторшу нашей гостиницы. Ту одинокую женщину, что в розовой кофточке ходит. Ох и аппетитная бабенка!
— Ах эту! — басом раскатился Локтев. — Уволь. Эта меня не полюбит. Рожей для нее я не вышел. И потом, все говорят — она недотрога.
— А ты ее вечерком в комнату отдыха пригласи, — продолжал подтрунивать Игорь, — там фортепиано. Ты крышку открой и какой-нибудь ей ноктюрн. Шопена там или Баха. А для большего эмоционального воздействия Андрюшу Субботина позови. Он споет.
Локтев почесал крепкую мускулистую шею.
— Не пойдет. Во-первых, у Баха не ноктюрны, а фуги, а во-вторых, Андрюха споет, она же в него и влюбится, а я так и останусь в роли аккомпаниатора.
Алексей, едва лишь понял, что они говорят о ней, о его Лидии, отошел в сторону, стиснув зубы. Волна неожиданной ярости охватила его. Он и сам не знал, что могло в нем родить такую ярость. «Да как они смеют так говорить о ней? Кто им дал право? Подойти да тряхнуть этого Игоря за шиворот». Но голос рассудка тотчас же взял верх: «А какое ты имеешь право? Кто ты ей и кто тебе она? Взорвешься — и только породишь лишнюю болтовню о ней».