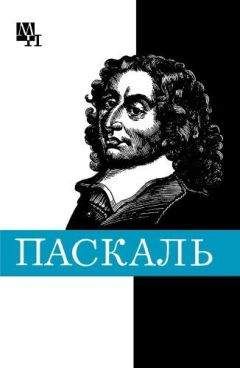Ученые пребывали в бешенстве — и в растерянности.
А Мордехай понял окончательно: от властей ничего доброго быть не может.
Ну почему, скажите на милость, им было не отдать созданный прибор мировому сообществу? Что за дурацкие… э-э… предрассудки? Работы бы продолжились, и великий Вольфганг Лауниц бы к ним присоединился, и блестящий Мэлком Хьюз… Ни два, ни полтора! Ох, владыки! Да таблицу умножения-то они хоть помнят или уж забыли давно и знай себе только молятся? Колесо сансары, понимаете ли, им понятней, чем разрушение наследственного вещества микродозами радиации! Ом мани падмэ хум, понимаете ли! Впрочем, нет, это не здесь… Да какая разница! Отче наш иже еси… э-э… на небеси…
Он немедленно, не слушая никаких уговоров и посулов, уволился и уехал.
Кончились луга.
Поначалу, видимо, просто по привычке, на многолетнем инстинкте, Мордехай принялся сыпать свои рецепты в бездонную пропасть высшей власти. Вотще. В первый раз, правда, он после двух седмиц напряженного ожидания получил, уже почти утратив надежду, красивый объемистый конверт, пахнущий жасмином; в нем таились два листа правительственной почтовой бумаги, украшенные полупрозрачным, чтоб не мешал читать, изящно сплетенным узорочьем сосновых игл и персиковых лепестков. В конце стояла подпись и личная печать имперского цзайсяна[52].
Дрожащими пальцами переворачивая листки, Мордехай начал читать — и понял, что ждал напрасно.
«Драгоценный преждерожденный М.Ф.Ванюшин! Мы прекрасно понимаем яшмовое человеколюбие Ваших мыслей и побуждений, над коими явственно вьют свои гнезда фениксы. Однако ж, по нашему скромному мнению, всякая потуга припомнить и перечислить взаимные грехи и проступки, а частенько — и жестокости, кои народы чинили друг другу на протяжении мировой истории, приведет не к примирению, а к обострению былых обид. То, что с течением времени сгладилось, вновь встанет перед людьми подобно горе Тайшань, словно и не прошло после тех порой воистину ужасных событий многих лет и веков добрососедской жизни — каковая является, по совести говоря, единственным оправданием давно минувших злодеяний. Более того, стоит только начать, и обязательно найдутся те, кто примется не с сожалениями вспоминать свои прегрешения, а с наслаждением перебирать чужие. А примеру их, чтобы не остаться в долгу, последуют и остальные, последуют, руководствуясь отнюдь не злоумием, а простым и естественным, присущим всем порядочным людям стремлением исправить возникшее искривление и вернуться к золотой середине. Воистину, даже благородных мужей такое может соблазнить вести себя подобно людям мелким, может понудить и их вовлечься в бесконечное и бессмысленное растравливание взаимных неприязней, а потом и — ненавистей, хоть и не хотели бы они того вовсе. А сие представляет для государства и всех в нем обитающих величайшую опасность. Беды, кои могут проистечь от этого, густо-неисчислимы — трудно, трудно даже вообразить их! Великий учитель наш Конфуций сказал: „Бо-и и Шу-ци не помнили прежнего зла, поэтому и на них мало кто обижался“[53]. Цзы-ю, один из лучших учеников Конфуция, сказал: „Надоедливость в служении государю приводит к позору. Надоедливость в отношениях с друзьями приводит к тому, что они будут тебя избегать“[54]. Возможно ли вообразить себе что-то более надоедливое, нежели бесконечное перечисление: „Ты передо мной виноват в том, в том, в том, в том и еще вот в том“?..»
Словом, это была отписка. Обыкновенная бюрократическая отписка. Там, наверху, даже не удосужились как следует осмыслить то, что он предлагал.
А может, их пугала правда. Они предпочитали, чтобы жизнь была основана на лицемерии и лжи.
Остальные обращения Мордехая просто оставались без ответа.
Он начал выступать.
Он писал в газеты. Он требовал и иногда получал время на телевидении — чаще всего в программах, о которых прежде и слыхом не слыхивал, несмотря на их зазывные названия: «А ну-ка парни», «Илуй[55] у вас дома»… Ванюшин вполне отдавал себе отчет в том, что его слушают и вообще терпят только из великого уважения к его радиоактивным заслугам, период полураспада коих еще далеко не истек; то, что люди сразу скучнели, стоило ему сказать свое первое «э-э…», что через две-три минуты они начинали шушукаться, листать журналы, а то и просто выходили из зала, то, что его слова в газетах переиначивали, сокращали, превращали то в юмор, то в притчу, ранило его — но не останавливало. Он не терял надежды достучаться до людских сердец.
Он старался, как мог, идти людям навстречу, он развивал свои взгляды. Он отказался от идеи возмещения материальных убытков и физического ущерба. Это, пожалуй, было и впрямь слишком — как теперь подсчитать, сколько стоили вырубленные сады, сожженные столицы, взорванные мосты и дредноуты? А главное и вовсе не поддавалось строго научному анализу — как возместить потери в людях?
Хорошо, пусть так. Ошибочная идея, он готов признать. Но само душевное движение навстречу друг другу, само порывистое глобальное «простите за все-все-все» — оставалось неотменяемо. Без него нельзя было обойтись, нельзя было строить общее будущее. Нельзя. Водородная смерть висела над головами.
Несколько раз с Мордехаем пытались поговорить то коллеги, то представители местного раввината, а однажды даже настоятель Иерусалимского храма Конфуция попросил о встрече. И все в один голос, хоть и разными словами, пытались уговорить его умерить свой пыл. Наверное, их подсылали власти.
Старый друг, тоже физик, только лазерщик — они знакомы были с детства и учились вместе в Александрии, и не счесть было общих воспоминаний о том, как ожесточенно и чудесно они спорили, чертя формулы прямо на земле или на асфальте у берегов то Яркона, то Нева-хэ, — не сдержавшись, тряся у Мордехая перед носом волосатым суставчатым пальцем, закончил свои увещевания криком: «Благодари Бога, что ты пока всего лишь смешон! Если тебя начнут слушать, ты окажешься страшен!» Мордехай тихо, но твердо велел ему уйти и навсегда отказал от дома.
Постепенно к Ванюшину потеряли интерес. Дескать, мало ли на свете чудаков? Есть и посмешнее… Он сразу ощутил эту перемену. Но оставался непреклонен. Когда он требовал прекратить испытания, его тоже долго не слушали — но он победил. Победит и на этот раз. Просто нельзя отступать.
Семнадцатого элула это произошло. Меньше двух седмиц оставалось до начала изнурительной череды праздников тишрея[56] — Рош ха-Шана, Йом-Киппур, потом шутовской Суккот… Сам Мордехай никогда не понимал, зачем их столько и что с ними делать. Праздники только отвлекали. Когда-то давно, когда он был еще не один и было с кем шутить и смеяться, Мордехай, если его спрашивали, где и как он собирается проводить тот или иной праздник, отвечал, смущенно улыбаясь и чуть склонив голову набок, модной в ту пору в стране фразой: «Отмечу его новыми трудовыми победами…» Теперь шутить стало не с кем, но по сути ничего не изменилось. Однако Мордехай с пониманием относился к человеческим слабостям, и его совсем не удивило, что в доме культуры, где он выступал с очередной лекцией, собралось совсем мало слушателей. Уставшие от летней жары и работы люди уже начинали предвкушать долгую веселую суету, даже начинали готовиться помаленьку, и им было не до высоких материй. Когда он закончил, ведущий, который, к радостному удивлению Мордехая, не заскучал, а слушал внимательно и даже, похоже, сопереживая, спросил: