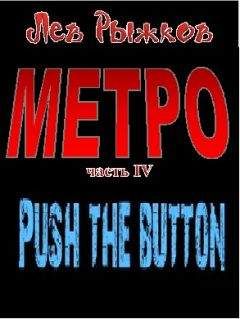8
_28 марта 1966 года. Температура воздуха +29. У меня температура нормальная. Голова ясная, тело невесомо. Боль в суставах нарастает. День кажется страшно длинным. Ночью легче: все спят, можно писать. Если за мной шпионят – рукописи уничтожат. Меня тоже. Гадаю, что будет раньше. Третьи сутки Сонарола._
Бодрее за перо, ещё нужно сказать о многом.
Я умею целиться в темноте, питаться листьями, прыгать с парашютом и шифровать радиограммы, а также молчать под пытками. Мы приучались спать на земле и разводить бездымные костры, мне сделаны прививки против малярии, чумы, холеры и тропического клеща. Капитан Тиллоу говорил:
– Университеты снабдили вас специальностью, я попытаюсь сделать из вас приличных рейнджеров. Вы здесь потому, что в современном мире победу н схватке приносит превосходство интеллекта, но образованность – она же ваш троянский конь. Вы слишком долго впитывали так называемую общечеловеческую мораль – в школе, на проповедях, в библиотеке, когда штудировали философию и право. А для вас не должно существовать добра и зла, так же как и законов милосердия. Мы сами ставим себя вне общества: наша работа, крики торжества, хрипы отчаянья, жизнь и смерть остаются тайной, и только после наших похорон семьям осторожно приоткрывают правду о том, кем были мы.
Можете насмехаться над лицемерием благопристойной публики. Мы служим ей, но не ждите, чтобы вам подали руку. Порядочное общество боится замарать белые перчатки.
Можете презирать политиков и дипломатов – все они пользуются нашими услугами, – но никто из них не пожертвует положением, чтобы разделить ответственность со своим провалившимся агентом.
Но можете гордиться тем, что оказались годными для службы, с которой нельзя уйти, службы, поставившей вас вне закона и над законом. И когда это чувство преодолеет в вас привычку судить поступки судом совести, я расстанусь с вами без опасений.
Мне нравились его суждения. В школе нас было много – людей без биографий и имён. Просто Фред, Аллан, Джек – клички, такие же, как моя -Рандольф. Но все мы имели высшее образование и предназначались для особых заданий, превосходящих всё, что может быть доверено обычному разведчику.
Я знал, что не обладаю сильной волей, что мне не хватает усердия и выносливости. По натуре я созерцатель – здесь меня заставляли действовать. Я прибыл к Тиллоу с неважной мускулатурой – в школе меня принудили заниматься спортом. Я видел, как с каждым днём крепнут мои бицепсы и темнеет от загара лицо. Мне было 23 года, а кто в эту пору жизни не мечтает о физической силе, о зависти прохожих, о румянце девушек, чей взгляд ты перехватил, когда они любовались твоей фигурой.
Я был здоров как никогда, с радостью встречал усталость от физической нагрузки, спал без сновидений и не хотел задумываться над дальнейшим. И над чем было думать? Меня воспитали патриотом. Хотя у нас в доме политика была не в моде, никто в семье не сомневался, что наша страна – лучшая в мире, наши порядки – самые правильные, а наших врагов надо побеждать. И раз уж мне выпало служить в том роде войск, который ведёт засекреченные сражения, я старался делать своё дело как можно лучше, чтобы оно было мне не в тягость, а приносило удовлетворение.
Капитан Тиллоу знал, как избавляют молодёжь от университетской неполноценности, неизбежно возникающей вследствие чрезмерного общения с книгами. В сравнении с ним Джо Хант выглядел патриархальным, как сельский лекарь рядом с резектором из анатомички.
Впоследствии я часто вспоминал капитана, временами мне даже казалось, что Линдман похож на него лицом, хотя Тиллоу был много суше и носил пенсне.
Клиника Линдмана была достаточно знаменита, чтобы время от времени попадать на цветные страницы журналов.
Оффис размещался на шестом этаже старого корпуса. Портик, гранитная лестница, а перед ней фонтан, обсаженный кустами роз. Это сильно отличалось от того, что мне приходилось видеть в других лечебницах, и я ещё раз подумал, что каждый делает себе рекламу как может. Одни ошеломляют публику постройками, похожими на марсианские дворцы, принимают пациентов в кабинетах, заставленных сверкающим металлом и электроникой. Другие избирают респектабельность, консерватизм – у Линдмана работали лифтёры, облачённые в старомодные ливреи, какие, вероятно, носили в Европе задолго до войны, а сёстры были с кружевными воротничками и в накрахмаленных передниках.
Я поднялся наверх, но к шефу меня не пустили. Со мной разговаривала секретарша.
– Профессор извещён о вашем прибытии, – пропищало это ходячее веретено в плиссированной юбке. – Вы можете начать завтра в ординатуре доктора Биверли, в отделении номер пять.
Я спустился к фонтану и пошёл разыскивать нового хозяина, но когда вошёл в отделение, дежурная сестра протянула мне трубку:
– Вы доктор Рей? С вами будут разговаривать.
– Я сказала "завтра", – пропищало веретено. – Завтра – это не сегодня. Если каждый начнёт всё путать и ему надо будет объяснять каждую мелочь…
Я представил себе, как жидкая пакля, выкрашенная в серебристый цвет, поднялась дыбом на её вытянутом черепе, и положил трубку.
В сквере, на краю фонтана, сидела девушка в докторском халате. У неё были продолговатые глаза, зелёные с карим отливом, и вместо серёжек маленькие монеты в ушах.
Я сел напротив и уже не сводил с неё глаз.
– Прошло семь минут, – серьёзно сообщила она. – Может, вы скажете что-нибудь?
– Давайте посидим ещё семь минут, а потом я попрошу вас посидеть ещё семь.
– Идёт! У меня как раз через четверть часа свидание с Великим князем.
– Великий князь, надо думать, – это профессор Линдман?
– Кто же ещё. Он курит русские папиросы и у него титул, который невозможно выговорить. А вы новенький? Сид рассказывал мне, что вас ждут.
– Сид – это кто?
– Доктор Биверли. А меня зовут Клэр. Сегодня мне исполнилось 24 года.
Я встал:
– Если мне будет позволено, я вам вручу мой запоздалый букет и торт, или вы предпочитаете коробку шоколада?
– Шампанское, – сказала Клэр, – я ведь наполовину француженка. Приходите с шампанским к восьми вечера в гостиницу персонала, номер комнаты отыщите по указателю внизу. А теперь держите за меня кулаки.
Она скрылась в дверях оффиса, а я отправился в город за шампанским. Чтобы выйти к автобусу, надо было пересечь всю территорию клиники, и я ещё раз внимательно оглядел заведение Линдмана.
Оно занимало большую площадь, на трёх четвертях которой раскинулся густой парк. На открытом месте стояли только старый корпус и напротив ещё один – новый, с множеством балконов и окон. Остальные строения были одноэтажными, самые дальние вообще не напоминали больницу, а походили скорее на охотничьи домики. Чинные сёстры катали в инвалидных колясках обитателей особняков, укрытых дорогими пледами. Такой уход должен был стоить немалых денег, и я подумал, что про Линдмана не напрасно говорят, будто он наживает миллионы не потому, что хорошо лечит, а потому, что охотно освобождает состоятельных наследников от обязанности заботиться о свихнувшихся предках.