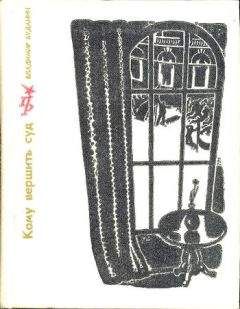А этот весь был закован в железо — медная каска прикрывала его лицо. Затянутый в кольчугу, вооруженный длинным копьем, он жаждал одних лишь поединков. У людей, живших в тот век, души были тверже стали, в которую закованы были их тела. Все решалось оружием, с его помощью устанавливались права, символы веры, справедливость, истина. В глубине картины виднелось огороженное место, а на нем — судьи и герольды, поднимающие с земли побежденного на поединке и тем самым — виновного.{205}
Дальше увидел я престранную фигуру — сей варвар-архитектор возводил колонны, совершенно несоразмерные зданиям, кои они призваны были поддерживать, да вдобавок покрывал их нелепыми украшениями; он притязал при этом на некую особую красоту, бывшую якобы недоступной грекам и римлянам. Такая же сумятица царила и в логике — то были нескончаемые споры о пустяках и отвлеченных предметах.{206} Какие-то сомнамбулы маячили в глубине; хоть они двигались и разговаривали, но при этом просто спали с открытыми глазами, а если и удавалось им иной раз связать воедино две мысли, это было чистой случайностью.
Таким образом обозрел я одно за другим все минувшие столетия, но останавливаться на этом подробнее было бы слишком долго. Немного дольше задержался я перед изображением восемнадцатого века, некогда мне весьма знакомого. Художник представил его в облике женщины. Изысканнейшие украшения отягощали ее гордую, изящную голову. Лицо, руки, шея, грудь — все усыпано было жемчугом и бриллиантами. У нее были живые, блестящие глаза, но губы кривились немного принужденной усмешкой, и щеки были густо нарумянены. Казалось, заговори она, и слова ее будут такими же неестественными, каким был взгляд ее — обольстительный, но неискренний. В каждой руке она держала по длинной розовой ленте; казалось, они служат украшением; но ленты прикрывали две железные цепи, коими женщина эта была прикована. Впрочем, она все же могла свободно двигаться, делать разные жесты, скакать и резвиться. И она весьма охотно пользовалась этой возможностью, дабы (мне так показалось) скрыть свое рабское состояние или, во всяком случае, сделать его легким и приятным для глаз. Я стал внимательно разглядывать ее во всех подробностях и, поближе присмотревшись к складкам ее одежды, вдруг обнаружил, что роскошное ее платье внизу совершенно разорвано и забрызгано грязью, ноги же босы и погружены в какую-то трясину. Насколько блестящее зрелище являла она собой сверху, настолько же отталкивающе выглядела снизу. Своим нарядом она весьма напоминала куртизанку, шатающуюся поздним вечером по улицам. Сзади нее я заметил нескольких детей, худых и мертвенно бледных, они взывали к своей матери, с жадностью уписывая кусок черного хлеба. Женщина пыталась спрятать их под платье, но маленькие страдальцы все же видны были сквозь его дыры. В глубине картины виднелись замки, мраморные дворцы, искусно разбитые цветники, населенные оленями и ланями обширные леса, оглашаемые звуком охотничьего рога. Но тут же рядом была деревня, где трудились крестьяне на плохо вспаханных полях и, обессиленные, падали на свои соломенные подстилки. А поодаль изображены были люди, которые одних силой уводили в солдаты, у других отбирали печные горшки и постели.[183]
Художникам удалось очень тонко передать своеобразие каждого народа.
По многим характерным чертам, по искусно переданным сочетаниям их, по горестному и озабоченному выражению лица нетрудно было сразу же узнать завистливого и мстительного итальянца. Но на той же картине унылое это лицо представало совсем иным — художник изобразил его в кругу музыкантов, поразительно сумев передать свойственную сему народу способность легко и как бы в мгновение ока совершенно-преображаться. В глубине картины видны были мимы, они корчили рожи и производили всякие забавные телодвижения.
Англичанин был изображен стоящим на вершине скалы; возвышаясь над океаном в позе скорей горделивой, нежели величественной, он мановением руки приказывал кораблю устремиться к Новому Свету, дабы доставлять ему оттуда сокровища. В решительном взгляде его ясно читалось, что для него гражданская свобода есть и свобода политическая. Ревущие волны, вздымаемые порывом бури, звучали для него сладкой гармонией. В любую минуту готовый схватиться за меч гражданской войны, он улыбался, глядя на эшафот, с которого скатывались голова и корона.{207}
Немец был изображен на фоне сверкающих молний. Он оставался глух к разбушевавшимся стихиям. То ли презирал он грозу, то ли вовсе ее не замечал. Рядом с ним яростно терзали друг друга орлы — для него это было всего лишь зрелище. Углубившись в себя, принимал он судьбу с философским спокойствием.
Отменно точно и правдиво представлен был француз с его рыцарственной обходительностью и возвышенностью чувств. В облике его не было особой оригинальности, но во всей его повадке чувствовалось благородство. Воображение и ум отражались в его глазах, в тонкой улыбке угадывалось лукавство. В целом сие полотно не отличалось богатством красок. Они были мягки и приятны, но не было здесь ни того сочного колорита, ни той прекрасной игры света, что так восхищали меня в других картинах. От множества мешающих друг другу мелких деталей рябило в глазах. В глубине картины виднелась огромная толпа людей, они несли тамбуринчики и били в них, стараясь произвести побольше шуму, — им казалось, что это напоминает грохот пушек; одушевление их было столь же стремительным и пылким, сколь легковесным и недолговечным.
Глава тридцать четвертая
СКУЛЬПТУРА И ГРАВИРОВАНИЕ
Скульптура, не менее прекрасная, чем старшая ее сестра, простерла тут же рядом дивные творения своего резца. Она уже не отдавала себя на поругание тем бесстыдным Крезам,{208} что унижали искусство, заставляя увековечивать их продажный облик или другие, столь же достойные презрения предметы. Художники находились теперь на содержании у государства и отдавали свои таланты людям достойным и добродетельным. Я не увидел здесь, как это бывало в нашем Салоне, рядом с бюстами королей бесстыдно выставленное изображение какого-нибудь гнусного откупщика, который этих же королей обманывал и обворовывал. Но если какой-либо человек, достойный предстать взглядам потомков, достигал успеха на избранном им поприще, а другой совершал мужественный поступок — вдохновенный скульптор тотчас же брал на себя выражение всеобщей признательности; он втайне увековечивал одно из памятных деяний героя (не присовокупляя к оному собственного портрета), а затем, неожиданно для всех объявив о своем труде, добивался позволения прославить одновременно и себя. Творение его привлекало всеобщее внимание и не нуждалось ни в каких пояснениях.