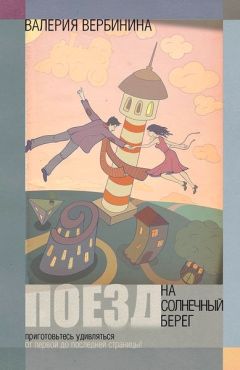Снаружи царила тишина. Компьютер чихнул.
– Я не собираюсь простужаться, – заявил он. – Закрыть дверь!
– Я не помешаю? – осведомился Лаэрт, проскользнув в окно и устроившись на своем месте.
Филипп взял лицо Ады и сжал его в ладонях.
– Прости, – сказал он.
– Ничего. – Она улыбнулась. – Ты тут ни при чем. Просто… просто… Ничего.
– Где ты живешь?
– Высади меня у маяка, – попросила она, высвобождаясь.
Филиппу стало больно. Он приземлился на площади у разбитого фонтана и еле выдавил из себя «До свидания». Она приготовилась выйти, но неожиданно обернулась и прижалась к нему всем телом. Филипп поцеловал ее тысячу раз, растроганный до глубины души.
– Как я найду тебя? – спросил он.
– Я позвоню, – пообещала она. Лицо Филиппа омрачилось. – Не спрашивай меня ни о чем! – крикнула девушка, уходя; и Филипп следил за ней взглядом, прильнув к стеклу и не замечая, что из окна другого истребителя на него смотрят чьи-то глаза, далекие и близкие одновременно. На обратном пути Филипп несколько раз встречал эту машину, но не обратил на нее внимания. В машине сидела Матильда.
«Филипп…»
Огни аэробульваров растекались по обе стороны от машины. Мимо проносились истребители, везделет с рокотом проволок свое длинное тело. Город жил своей фантастической жизнью, а где-то впереди струился теплый свет маяка.
«Как же так?»
Матильде показалось, что они едут слишком медленно, и она велела увеличить скорость. Ей было душно, и левой рукой она дернула ворот платья, смыкавшегося вокруг горла. Платье послушно преобразилось в вечерний открытый наряд.
«Но Филипп, Филипп… Что же это такое? Почему?»
Маяк летел на нее, ослепляя; еще миг – и он остался позади. Матильда заметила, что машина мчится, как сумасшедшая, и голосом, который не узнала сама, отдала распоряжение ехать медленнее. Роскошный огромный салон неожиданно стал для нее узок и неудобен; она металась, щеки ее горели, она была подавлена, она не понимала ничего.
«Может быть, и его знакомая… Просто знакомая. Подруга детства. Все они назойливы… (Матильда вспомнила Ровену и закусила губу.) Но почему тогда он не звонил мне? Почему?»
Матильда собралась с мыслями, пытаясь подыскать правдоподобное объяснение, но мысли ее словно превратились в хоровод маленьких гномов, которые кружили вокруг нее, корчили рожи и глумились над ней. То она вспоминала об отце, то думала, что хорошо бы ускорить свадьбу, и вскоре запуталась окончательно и безнадежно. В сущности, только одно имело значение: любит ее Филипп или нет; и Матильда неизменно отвечала себе: «Меня? Конечно же, любит!»
«Я поговорю с ним, – решила она. – Интересно, хорошенькая эта девушка или нет? Может быть, какая-нибудь подруга Лаэрта… Но у Лаэрта нет подруг».
Матильда обратилась к бортовому компьютеру:
– Соедините меня с машиной Филиппа.
– Машина на связи, – доложил компьютер.
– Нет, не надо, – сказала Матильда, помедлив.
«Что я ему скажу? Что следовала за ним? Что видела его с той девушкой? Но ведь ничего не произошло. (Так она думала.) Филипп скоро будет со мной, никто его у меня не отнимал. Все хорошо… как и должно быть».
Но самой ей почему-то было горько, и впервые в жизни Матильда почувствовала, что ей больно.
* * *
Толстый вирус сидел в стеклянной банке и в глубокой тоске. Профессор Пробиркин, в халате, очках и резиновых перчатках, порхал по лаборатории, мурлыча себе под нос. Руки его не знали устали: то они поправляли какую-нибудь колбу, то листали журнал, то выбивали на столе барабанную дробь – привычка, которую вирус не переваривал совершенно. К тому же профессор любил разговаривать сам с собой, обожал крепкий лимонад и жареные семечки. Любимым его изречением, вырезанным на стене золотыми готическими буквами кириллического профиля, было: «Думать вредно». Другое его изречение, которое он часто повторял, гласило: «Все – суета, кроме диссертации». Диссертация, которую поклонник лимонада защитил в юношеском возрасте, лет примерно восемьдесят назад, носила название «О членах у членистоногих и член-корреспондентов» и произвела среди ученых настоящий фурор. Пробиркина произвели в гении, и по скромности он принял это звание, обязывающее остальных (то бишь негениев) относиться к нему с опасливым почтением. Настроение у Пробиркина было превосходное: он только что закончил серию важных опытов, в которых участвовал вирус, и опыты эти дали именно такие результаты, каких и ожидал профессор, то есть никакие, что само по себе уже являлось важнейшим результатом. Итак, Пробиркин блаженствовал, или, как сказал бы Орландо, пребывал в полном шоколаде, а вирус с тоской следил за ним сквозь толщу своей стеклянной тюрьмы.
Проходя мимо банки, профессор подобострастно хихикнул (он всегда смеялся одинаково) и пощекотал ее. Вирус отпрянул: он ненавидел, когда с ним так обращались.
– Как самочувствие, дружок? – нежно спросил Пробиркин, прямо-таки лучась довольством.
– Отлично, – угрюмо отозвался вирус, дергаясь от злобы, – сквозь меня уже пропускали двадцать тысяч вольт, замораживали в жидком недороде и твердом азиоте. Что вы на этот раз придумали?
– Хе-хе-хе! – проскрипел Пробиркин, и его круглое брюшко затряслось. – А ты молодец, молодец. Значит, ничего не вышло, а? Даже в недороде!
– Да, я совершенство со всех точек зрения, – самонадеянно признался вирус, – и вы ничего не можете с этим поделать.
– Таким мы тебя и создали, дружок, – хихикнул Пробиркин, просматривая на свет колбу, в которой болталась какая-то мутная жидкость.
– Да? – ощерился вирус. – Я принадлежу матери-природе. Только она могла создать меня, а вы – используете.
– Но-но, не спорь со мной, – недовольно сказал Пробиркин, – мне лучше знать.
– Количество ублюдков среди человеческого рода, – усмехаясь, заговорил вирус, – свидетельствует о том, что вы даже сами себя толком воспроизвести не можете. Вообще, создавать не по вашей части; вот разрушать…
Пробиркин строго постучал по столу.
– Разболтался ты очень, – сказал он, швырнув колбу на полку через всю лабораторию. – Ничего, когда тебя будут представлять генералу, я уж позабочусь, чтобы ты держал язык за зубами.
Вирус завыл и стал биться о стекло банки, но оно было слишком прочно.
– Для чего меня здесь держат? – спросил он жалобно. – Я на волю хочу! – Пробиркин ласково улыбался. – Хочу свежим воздухом дышать! Хочу жить полноценной половой жизнью! Вот встречу какую-нибудь румяную инфузорию, заведу с ней счастливую семью… У-у-у…
Вирус стонал. Пробиркин поморщился.
– Семью отставить, – сказал он. – Будешь делать то, что скажу я. Пусть Розенкрейцер Валтасарович раскошелится на миллион-другой бубликов, я продолжу исследования и превращу тебя в образцовый антицветочный вирус.