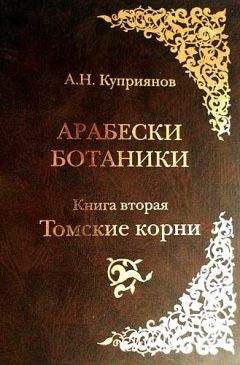Все сидели с такими осмысленными глазами, что, почувствовав импульс момента, Сюэли шлифанул все это рассказом о судьбе графа великого астролога Сыма Цяня.
— Придворный историограф — не такая уж высокая должность, на 600 даней риса, — говорил он. — В то время как первый советник, чэнсян, получает две тысячи даней и, согласно придворному церемониалу, носит серебряную печатку на синем шнурке, придворный историограф имеет право лишь на бронзовую печатку на черном шнурке — прочувствуйте вот это вы отличье. Однако именно к придворному историографу прежде всего стекаются все документы, в том числе и секретные, совершенно недоступные прочим. Его оценки лиц, событий определяют часто добро и зло. Его скромный голос звучит иной раз при дворе и слушают его.
"Вообще-то я планировал лишь рассказать о Пу Сун-лине и вовсе не собирался говорить ни слова о Сыма Цяне", — с удивлением отметил Сюэли, но его несло.
— Гадательные надписи на бамбуке и черепахе — не летописный, прямо скажем, жанр, а все же составление их всегда историографа касалось. Хранение архивных документов, судьбу ли предсказать, составить календарь, в вопросах астрологии вдруг диспут — все это в компетенции его. Сопровождает императора, объявляет счастливые дни и несчастные… словом, все это вы знаете. Все это Сыма Цянь вершил исправно. Но создал он свое бесценное творение — Ши Цзи, иначе "Исторические записки", пятьсот тысяч иероглифов, после того лишь, как случилась с ним великая беда. Ведь мы как думаем всегда? Мы представляем, что писались Ши Цзи такие кем и где? В уединенье и покое, в светлом, просторном кабинете, за окнами, конечно, райский сад, стрекозы там над лотосовым прудом, иной раз заглянут ученики, соседи, с почтеньем ловят каждый чих…
— Чаек приносят на подносе…, - поддержали ученики.
— Веером обмахивают, отгоняют мух…
— Работа все растет, объемная такая… Бумагу поставляют от двора. Справляются вельможи о здоровье… по всем дорогам скачут их гонцы, — издевался Сюэли. — Так вот: пришло вам время рассказать, что за несчастье вышло с Сыма Цянем.
Так подошел он к делу генерала Ли Лина.
— Заступившись за Ли Лина, граф великий астролог не был понят отнюдь, даже понят в неверном ключе, и был брошен в тюрьму, где, понятно, бесполезно было что-нибудь доказывать, объяснять. На шее, знаете, канга — доска тяжелая такая, веревки, путы на ногах, чуть что — бьют палками, плетьми, не очень-то и шевельнешься, сожмешься, ждешь, чтоб мимо пронесло надсмотрщика иль стражника суда. Все это позже Сыма Цянь живописал чудесно для потомков.
Да, если бы по волшебству или достижениями науки я вдруг заброшен был бы ко двору У-ди, переместился бы во второй век до нашей эры, пожалуй, я хотел бы вмешаться, подправить что-то в деле генерала Ли Лина. Не знаю, как бы я там поступил, но тайшигун Сыма Цянь не был бы припутан к этим козням.
Так вышел он из тюрьмы, замаранный, изувеченный, самоуважения лишившись и целостности организма, по общей амнистии 96 года до нашей эры. От мысли одной о том, что случилось с ним, бросало то в жар, то в холод. Ужасный позор. И продолжал жить вот так, в тягчайшем поношенье. Подняться на могилы предков теперь уж не решался он — с каким лицом?.. И вот в частном письме он объяснял, отчего не умер тогда же. Как писал он совершенно откровенно, сначала он протормозил. Позднее, признавал граф великий астролог, он как-нибудь сумел бы вызвать смерть, не хуже прочих, но тут его взяла досада, что труд, им задуманный, останется тогда в черновиках, "свет его знаний на письме не явится позднейшим поколеньям". И в этом положенье, "после ножа и пилки", презреньем окружен, с кромешным ужасом и мраком на душе, он написал все, что хотел, сто тридцать глав, великолепнейшим своим слогом и стилем. И так закончил труд, которому нет равного под небом, и яшма чистая там каждое сужденье.
Так вот, граф великий астролог замечает к слову, что многие классические вещи, величайшие даже, молвить можно без обиняков, создавались учеными людьми тогда, когда на них обрушатся несчастья: так, Суню ноги отрубили, Цзо Цю лишился света глаз, и точно уж лишились все почестей там всяких при дворе. Он поминает "Осени и весны", поэмы Цюй Юаня и «Го-юй» — и обстоятельства, в которых излито это на бумагу. Тут очень ясно видно, что творцы их, по замечанью Сыма Цяня, "служить уж больше не могли, ушли от дел и углубились в книги", искали выход дать тоске и обнаружили пред миром свои мысли, багаж, накопленный за много лет. Итак, великий граф астролог говорит: "Так стало жаль, что я не кончил дела, — что я и казнь гнуснейшую стерпел без всяких жалоб или недовольства". Не умер он, не завершив Ши Цзи. Не думаю, что есть нужда в словах еще каких-то, кроме этих.
Поэтому — напишете ли вы на конкурсе там что-то или нет, что о маранье вашем скажут судьи — нимало не должно вас волновать. Вот раньше была чистая вода — и было много светлячков. Сейчас же воды загрязнились повсеместно — и светлячков уже не наблюдаем. Вот то, что для последней нашей встречи хотел бы я сказать.
Почему-то после этого напутствия его ученики вынесли совершенно всех конкурентов и взяли абсолютно все места на конкурсе сочинений. Это было странно.
В листах, забракованных Сюэли, исчерканных и раскиданных по всей комнате, стояли следующие знаки:
"…спасаясь от мальчишек, кидавшихся камнями, какой-то зверь юркнул во двор: собака — не собака? — наутро, глядь, молодой ученый в парадной шапке. Благодарит Цзинцзин за спасение, низко кланяется и отправляется восвояси. В тот же день прислал подарков без счету. С тех пор встречались иногда, обменивались мыслями о музыке, о поэзии. Привычку заимели встречаться часто, для других незримо — так, в павильоне в конце сада, и только при луне"… "Потом сказала как-то тетка ей, старая сплетница, мол, лисы — ненадежный народ; лис кланяется-кланяется, сидит, смотрит и говорит, как все, — а вдруг и утащит к себе в нору! Глубокую, под сосной. От этого вздора лис с полчаса хохотал — и повел, показал ей хоромы, где золотом и яшмой отделан каждый уголок, со вкусом большим все убранство, — что, мрачно в норе у лисы?"
""Если пища сама лезет в рот, ведь трудно удержаться, — жаловался лис. — Но я держусь, не смею и подумать, чтоб коснуться"… Другие лисы осуждали очень".
— Лисы коварны, в чем-то драконам сродни,
Очень любезно могут держаться они,
Но поведут туда-сюда длинной мордой —
И сократят неразумного смертного дни.
— Что ты, сюцай Вэй совсем не таков,
Кроток, усядется в дальний всегда уголок,
Если окажемся вдруг, позабывшись, мы рядом,
Сам и без просьбы отсесть он учтиво готов.