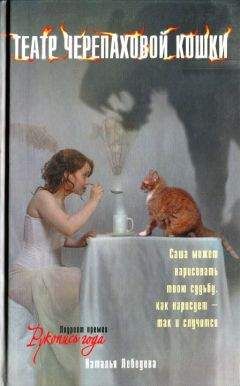Дверь на чердак не заперта. Виктор открывает ее медленно, боясь, что скрипнут петли, и громкий звук испугает Сашу. Он идет по грязному чердаку и, упершись руками в парапет, выглядывает наружу. Видит, как Саша стоит там: раскинув руки, пытаясь пальцами цепляться за растрескавшуюся штукатурку опоры.
Она не видит его. Больше всего Виктора пугает, что она шевелит губами и, почти не мигая, смотрит прямо перед собой. Смотрит пристально, определенно, будто ее взгляд остановился на собеседнике, но воздух перед ней пуст, и даже снег идет теперь реже.
Виктор должен позвать дочь — у него нет иного выхода. Но он очень боится ее подтолкнуть. И когда он осторожно выталкивает из себя короткое слово «Саша», она действительно вздрагивает. Ее левая рука на минуту отрывается от стены и повисает в воздухе планирующим крылом. Виктору кажется, что сейчас и тело наклонится вперед и, повиснув на мгновение в воздухе, рухнет вниз.
Но Саша удерживается. Черная вязаная перчатка (она так близко, что Виктор видит на ней едва ли не каждую петлю, и катышки свалявшейся шерсти, и вытянутую нитку — и думает, что сегодня же надо купить ребенку новые перчатки, и лучше зимние, и лучше на меху, вот спустимся и сразу пойдем в магазин, и в торговом центре через дорогу — чуть наискосок — кажется, раньше был такой отдел, может, и сейчас есть) — так вот, перчатка прижимается к стене. Она словно крот на бетонном полу. Указательный Сашин палец, как кротовье рыльце, беспомощно шарит тут и там, желая зарыться поглубже, — но бесполезно.
Саша не смотрит в его сторону.
— Уйди, — говорит она. Глядит по-прежнему вперед, но Виктор понимает, что Саша разговаривает с ним.
— Саша, Саша… — бессмысленно бормочет он, пытаясь подобрать слова, но все они, кроме ее имени, кажутся опасными, словно заряженное оружие — в любой момент выстрелит, поэтому хранить в сейфе и разряженным, любой охотник знает, но у Виктора нет знакомых охотников, да и он сам никогда… и Виктор просто не смеет начать.
— Можно я подойду к тебе поближе? — спрашивает он наконец, и тон у него заискивающий и просящий. А как же иначе? Только выпросить. Больше ничего не остается.
Саша не отвечает. Тогда Виктор перекидывает через парапет правую ногу, потом левую и, борясь со страхом высоты и с дежавю, обещающим непременное падение, сидит так минуту, или две, или всего несколько секунд — сложно сказать, потому что время перестает иметь значение. Его и много, и ничтожно мало одновременно.
— Ты мне мешаешь, — громко говорит Саша, а потом снова начинает беззвучно шлепать губами, словно заклиная раскачивающуюся перед ней змею, и Виктор почти даже видит плоскую треугольную голову с желтыми глазами, но временами ему кажется, что это вовсе не змеиная голова, и еще ему кажется, что глаза не-змеи внимательно смотрят и при этом плотно зажмурены.
— Я хочу помочь.
Сашина рука совсем рядом. Он может схватить ее в любой момент. Но тут нужно подумать, и Виктор думает, думает, думает, и в какой-то момент выясняется, что мысли его бегут на месте. И это неудивительно, потому что, сколько ни представляй себе, что будет дальше, сценарий всегда один: Саша дергается, он тянет ее к себе, но одновременно и чуть вперед, чтобы отлепить от стены; она теряет равновесие; ноги соскальзывают, она падает вниз, и какое-то время Виктор удерживает ее на вытянутой руке: пальцы сжаты намертво, но карниз слишком узок, опереться почти не на что, и он сам нагибается вперед, ноги отрываются от бетонной полоски…
Он все равно должен упасть. Но не Саша. А значит, необходимо, чтобы она осторожно подошла к нему. Под любым предлогом. Как угодно. И тогда Виктор втолкнет ее через арку внутрь, на покрытый слоем слежавшейся земли пол. А сам от этого толчка, скорее всего, полетит назад, а значит — вниз. Потому что он видел это в сюжете.
Тут Виктор ловит себя на мысли, что больше не боится. Не боится, но восхищается, как элегантно ведущая все устроила. Красивая комбинация. Единственная смерть, которой невозможно избежать, — это жертвенная смерть.
— Уходи.
Сашина перчатка уползает от него по стене. Расстояние увеличивается всего на пару сантиметров, но движение вполне понятно, вполне читаемо.
— Я просто хочу, чтобы ты жила.
Его правая нога осторожно спускается вниз, к бетонному козырьку. За ней — левая, и вот Виктор уже стоит, вывернув ступни, словно балерина, потому что его ноги не умещаются на узкой полосе карниза. Сразу начинает ломить колени, и он понимает, что времени мало: долго так не простоишь.
Саша слегка поворачивает голову:
— А я не хочу умирать. Я просто хочу уйти от вас.
Сашины губы кривятся, в голосе появляется неуверенность. Виктор видит, что в глазах у нее слезы. Левая рука тянется их смахнуть, и дуга, очерченная ладонью, оказывается очень широка, так что Саша слегка покачивается.
Виктор забывает, что хотел сказать. Забывает даже, что он уже сказал и что Саша ответила. Он думает только о том, как бы она не упала, о глазах, которые из-за слез теперь плохо видят, и о том, что из-за этого у дочери может закружиться голова.
А Саша, смахнув слезу, замечает интересную вещь: Черепаховая Кошка слушает. Треугольная розовая раковина уха слегка поворачивается в ее сторону.
— Кошка! — зовет она, но Кошка снова недвижима. И тогда Саша принимает Кошкину игру: — Ты, — говорит она отцу, и ухо снова слегка подергивается, — ты же не хотел, чтобы я у вас была. Так вот, пожалуйста, получи свою свободу.
Кошка на секунду приоткрывает глаз, и Саша видит желтое свечение муаровой радужки. Отец не отвечает, может быть, он уже упал, но Саше сейчас важнее Черепаховая Кошка.
— Можешь не отпираться, все твои слова будут лживыми. Я прекрасно слышала, что ты сказал, когда вы с мамой ругались. Ты сказал, что предлагал ей сделать аборт, и она виновата, что не сделала его. Это предательство. Это подло! Ты сказал это, когда я уже была.
Виктор стоит на карнизе молча. Его колени чуть согнуты и дрожат, носки повернуты к Саше, правая рука обхватывает парапет, как рука джигита в цирке обхватывает лошадиную спину. Но махнуть через парапет Виктор не собирается. Его дело здесь, по эту сторону. А молчит он потому, что не знает, как ответить. Он не помнит, как говорил про аборт. Он даже мысли не может допустить, что так говорил, — разве что в приступе ярости, относя это только к жене с ее страхом и жалобами, но никак не к дочери. Он любил Сашу преступно нежно всю ее жизнь, с самого рождения. Мелкая, холодная дрожь ужаса заставляет его передернуть плечами.
Саша заканчивает свой маленький монолог. Ей никто не отвечает, и тогда она, боясь упустить малейшее Кошачье движение, разворачивает платок, чтобы увидеть, тут ли еще отец.