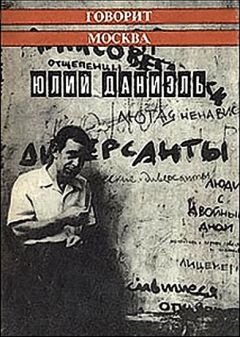— Масса экспрессии.
Я ничем не рисковал: мне было доподлинно известно, что Саша никогда не читал Хакалы.
— Правда? — Саша просиял.
— Да, — продолжал я, — но мне кажется, что труп слишком кричит.
Саша живо соскочил с постели и, оттопырив губу, посмотрел на свою работу.
— Пожалуй, ты прав, старик, — сказал он. — И знаешь, отчего это? Мне бы следовало сделать это поусловнее, не таким реалистическим, не таким настоящим, что ли…
Мы пили коньяк; Саша рассказывал о своих занятиях, я слушал и рассказывал о том, что во всем виновата Зоя, что если бы не она, я бы и думать не стал об этом проклятом Дне убийств. Какое мне дело до него? Какого чёрта… Да пропади они пропадом! А Зойка — сука. Надо Павлику сказать. Нет, теперь уже не надо. Теперь, когда я отказался, она побоится. Сука, убийца. Все было так хорошо, нам было так хорошо, а теперь я больше к ней не прикоснусь. Да она и сама не даст. Из-за нее, это из-за неё я должен сидеть тут и слушать пьяные излияния Чупрова. Левый, новатор! Завтра объявят День педераста, и он сразу за кисти схватится. Будет вычерчивать рост гомосексуализма по сравнению с 1913 годом. Я больше не хочу никого убивать. Не хо-чу!
— Чего ты не хочешь? — спросил Чупров.
— Пить я больше не хочу.
— Больше и пить-то нечего. А почему это ты пить не хочешь? В самый раз. Погоди, я сбегаю за бутылкой… Или вот что: хочешь, я тебя с одним человеком познакомлю, со стариком, хочешь? У-у, какой старик! Он стихи пишет. Пошли, пошли, благодарить будешь, ты таких не видал никогда.
— Пошли!
Я встал, меня качнуло.
— Пошли, Саша! Пошли Александр Чупров! Пошли, гениальный художник. Он тоже гениальный? Он все объяснит?
— Все! Он все может объяснить — он официант!
Они в любом подъезде залегли,
Они струятся запахом карболки,
Они в траве, растущей из земли.
В старинных книгах, дремлющих на полке.
Повсюду слышен шепот неживой
И злой конец таит любая фраза.
Они в воде, текущей в душевой
И в смелом бормотанье унитаза.
Георгий Болотин. «Дьяволы смерти».
Пока мы покупали водку, ловили такси и ехали куда-то к Даниловскому рынку, я успел немного протрезвиться. «А зачем и куда я еду? — подумал я. — На кой ляд мне этот старик? А впрочем…» Впрочем, воскресенье надо было как-то заканчивать. Старик, так старик. Подумаешь, великое дело: с женщиной расстался. С любовницей разошелся. С бабой расплевался. Старик так старик.
Саша остановил машину и расплатился.
— Ты посиди тут, а я пойду узнаю, можно ли к нему. Я мигом…
Я улегся на скамейку бульвара и закурил. За спиной дребезжали трамваи. По дорожкам молодые отцы возили в колясках младенцев. Надраенные солдаты гуляли с девушками, чинно-благородно вели беседу и не лапали — было еще светло. Я поднял глаза.
Новые восьми-девятиэтажные дома стояли разомкнутым строем параллельно бульвару; их светлые кирпичные лица с чисто промытыми глазами доброжелательно и обнадеживающе глядели на молоденькую зелень посадок. Но в разрывы этого парадного оптимизма упорно, с мрачным сознанием собственного превосходства уставились серые здания тридцатых годов. Поставленные углами к бульвару, клиноподобным строем, немецкой «свиньей», — они, не трогаясь с места, все же надвигались из глубины дворов. И такая уверенность в своей правоте чувствовалась в них, такая непоколебимая верность идее, что казалось: восстань только из гроба Зодчий, породивший их, протяни он указующую длань — и серые утюги двинутся вперед, сметая картонную мишуру новостроек, равняя с асфальтом автоматические лифты, финскую мебель, двухтомники Хемингуэя и фиги в карманах модных брюк.
Чупров появился около меня внезапно, словно из-под земли выскочил.
— Айда, — сказал он. — Маэстро дома.
Я пошел за ним, толкаясь грудью о бутылки, засунутые во внутренние карманы пиджака.
В чистенькой, вылизанной до блеска однокомнатной квартирке нас встретил маленький старичок с шевелящимися бровями. На нем поверх трикотажных спортивных брюк была надета старомодная пижама со шнурами, похожая на гусарскую куртку; из-под пижамы выглядывала черная косоворотка с белыми, как на баяне, пуговками.
— Прошу, — сказал он. — Очень приятно. Арбатов, Геннадий Васильевич. А вас как прикажете величать? А по батюшке? Анатолий Николаич. Очень приятно. Проходите, садитесь, не обессудьте за беспорядок: холостяцкую жизнь веду, супруга на даче пребывать изволит.
Мы прошли в большую, продолговатую комнату; мебель была новая, ухоженная скатерть на круглом массивном столе заботливо прикрыта прозрачной клеёнкой, на диване-кровати, как горох, мал-мала меньше лежали подушки. Одна стена была наглухо затянута серым занавесом.
— Вот, Геннадий Васильич, друг мой Толя очень интересуется вашими стихами, — сказал Чупров. — Вы почитаете нам?
— Экой вы, Сашенька, скорый. Все торопитесь, все спешите. А позволительно спросить, куда? Всему свой черед. Не гоните быстролетное время, успеете. Вот мы выпьем водочки с Анатолием Николаевичем, посудачим о том, о сем, обмахаемся, как муравьишки, усиками. А там и до стихов рукой подать. «Стишок — отрада для кишок», как говаривал один мой добрый приятель. Вы, Анатолий Николаич, согласны со мной?
— Да не называйте вы его Анатолием Николаевичем! Толя — и все!
— Нет, любезный мой Сашенька, не могу-с! Мы с молодым человеком первый раз встретились, пуд соли не съели. Все принимаю в нынешней жизни, все приветствую и, как говорится, поздравляю, а вот с новомодной привычкой, этой привычкой не величать — согласиться никак не могу. Меня, ежели угодно, с пятнадцати лет Геннадием Васильевичем звали. И правильно! Ибо уважительное обращение человека возносит, приподнимает, так сказать, над грешной землей. Как вы считаете, Анатолий Николаевич?
— Да как вам удобнее будет, — сказал я. — Хоть горшком назови…
— …только в печку не ставь, — закончил старик.
Он говорил, а сам быстро и аккуратно накрывал на стол. Рюмки, вилки, тарелочки, редис, огурцы, нарезанный хлеб, колбаса возникали на столе со сказочной быстротой. И также быстро, как заученные, сыпались из него слова — округлые, уютные и старомодные, как вилки с костяными черенками. Он разлил водку по рюмкам, и мы выпили.
— Да, насчет горшка и печки вы правильно заметили, Анатолий Николаич. А между прочим, обратное явление наблюдается: один другого так и норовит и горшком обозвать, и в печку сунуть — на уголечки, на жарок…
— Люди — звери, — мрачно сказал Чупров. Он, очевидно, вспомнил непринятый плакат.