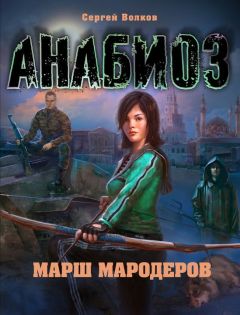— Господи Иисусе Христе, Боже наш! Прийми молитвы и рук наших воздеяния о оставлении всех грехов и беззаконий наших, имиже раздражихом Твое человеколюбие и прогневахом Твою благость: и отврати от нас весь гнев Свой, праведно движимый на ны, и утоли вся крамолы и нестроение, и раздоры, ныне сущия, и кровопролития, и междоусобную брань, и подаждь мир и тишину, любовь же и утверждение, и скорое примирение людем Твоим, их же честною Твоею искупил еси Кровию, славы ради имени Твоего, утверждения же и укрепления Церкве Твоея Святыя, яко благословен еси во веки веков.
— Амии-и-и-инь! — торжественно воздевает вверх крест Монах.
— Это вроде не во славу, а про другое немножко, а? — тихо говорит Ник Заварзину.
— Да пусть тешатся, — Николай дергает уголком рта, словно у него нервный тик. — Сейчас вся эта бодяга закончится — на Совет приходи. Знаешь, где у нас теперь госпиталь?
Ник кивает. Раненых разместили в комнатах бывшей дирекции Цирка, на двух этажах пристройки, выходящей окнами на болото. Цапко вместе с добровольными помощницами, по большей части родственницами тех, кто пострадал в ночном сражении, не выходит оттуда весь день — оперирует, извлекает пули, как может, облегчает страдания испытывающих нестерпимую боль людей.
Имея из медикаментов только марганцовку и спирт — все остальные лекарства пришли в негодность — фельдшер обратился к народной медицине. Отвары, примочки, мази, листья и корни растений — за прошедшее время его врачебный арсенал существенно пополнился, но все равно этого недостаточно для того, чтобы помочь всем страждущим.
— Газовая гангрена будет, — сокрушался он сразу после окончания штурма и боев внутри Кремля. — К гадалке не ходи — будет. Антибиотиков у меня нет. Сульфаниламидов нет. Анальгетиков нет. Анестезии нет! Что делать, как людей спасать? Ума не приложу…
На торжественный молебен Цапко выйти отказался, сославшись на неотложные дела в госпитале. Ник видел его в коридоре, ведущем из главного здания Цирка в пристрой — фельдшер, а ныне главный врач общины, еле держится на ногах от усталости. Под глазами фиолетовые круги, лицо серое, губы обмётаны. Как говорится — краше в гроб кладут.
Утром, сразу после того, как «маталыга» доковыляла до Цирка, с трудом продравшись через заросли кустарника на площади Тысячелетия, Ник собрался за Эн. Он тоже с ног валился после событий прошедшей ночи, но не мог оставить девушку в неведении. Неожиданно откуда-то появился Хал, который теперь хвостом ходил за Заварзиным, и весело сообщил, что сам сходит к Дому Кекина. Ник совсем уже было согласился, но тут вспомнил разговор с Юсуповым и впервые за все время в душе его вспыхнул странный огонек, маленькая такая искорка, которая, однако, жгла и терзала изнутри, точно кусок раскаленного железа.
Довольно грубо отказав Халу, Ник отправился за Эн в гордом одиночестве, и уже в дороге понял, что заставило его так поступить.
Он банально приревновал свою воспитанницу. Приревновал, даже не решив для себя толком, как к ней относиться. Это открытие разозлило Ника. Добравшись до дома Кекина и постучав в запертую подвальную дверь условным стуком, он в ответ на радость Эн повел себя холодно и отстраненно, отчего разозлился еще больше. В итоге все закончилось ссорой, Ник был облаян Камилом, и до Цирка они шли практически порознь.
Дальше — больше. Эн радостно бросилась к Халу, они даже обнялись и вообще разговаривали так, точно были знакомы всю жизнь. Огонек внутри Ника разгорелся с новой силой. Он окреп, набрал жар и сделался похожим на пламя газовой горелки, ровное и мощное. Скрипя зубами, Ник полез было помочь Юсупову — тот в окружении толпы зевак возился с тягачом, — но там помощников хватало и без него, «героя ночного штурма», как назвала Ника Анна Петровна.
Так он без цели и без дела и прошатался до полудня, на который был назначен торжественный молебен.
— Братья и сестры! — гудит тем временем на арене Монах. — Испытания, ниспосланные нам свыше, положили конец вековой вражде вер и религий. Вернулись времена вавилонские. Ныне едины мы перед лицом единого для всех господа. Брату нашему, уважаемому Фариду, даем мы слово.
Ник, отогнав от себя неприятные воспоминания сегодняшнего утра, вытягивает шею, стараясь разглядеть неожиданного соратника Монаха, муллу Фарида, о котором он только слышал.
На центр арены степенно выходит сухонький, тощий старик с темным, сердитым лицом, на котором двумя угольками горят неожиданно большие, как будто бы нарисованные глаза. Ник успевает подумать, что мулла Фарид и Монах внешне странным образом дополняют друг друга, но тут мулла начинает говорить высоким и очень чистым для своего возраста голосом. Вначале звучит переливистая фраза на арабском, потом Фарид говорит по-татарски, а уж потом переводит свои слова на русский:
— Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Господу Миров, сотворившему нас и разделившему на племена и народы, чтобы мы познали друг друга, а не чтобы презирали друг друга. Если враг склоняется к Миру, склонись к Миру и ты и доверься Богу, ибо Господь — тот, кто слышит и знает всё. Среди слуг Бога самые милосердные те, кто ходит по земле в смирении, и обращаясь к ним, мы говорим: «Мир»!
— Ибо смирение есть высший добродетель! — диссонансом басит Монах.
— Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его! — взвивается под самый купол голос муллы.
— Аминь! — хором провозглашают оба.
— Слуги врага рода человеческого низвергнуты, как низвергнут был в адские бездны падший ангел, что предал своего Господа и творца! — продолжает Монах. — То было великое испытание, и мы с честью выдержали его. Но рано, рано, братья и сестры, нам пожинать плоды и почивать в покое. Всеблагой Господь дал нам второй шанс, дабы могли мы деяниями своими доказать ему, что достойны войти в царство Божие!
Ник наклоняется к Заварзину:
— То есть сперва Аслан с подельниками были вроде как хорошие, а вот теперь они — слуги Сатаны, я правильно понимаю?
Николай сердито дергает уголком рта и ничего не отвечает. Бабай, стоящий с другой стороны от Ника, слышит его слова и вполголоса произносит:
— И имей в виду — это фактически уже официальная версия.
Монах снова поднимает вверх крест:
— Как сказано в Откровении Святого Иоанна Богослова: после сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!