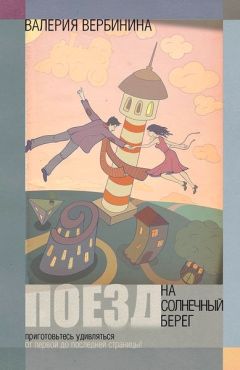– Нет, нет, нет, нет! – закричал Лаэрт, сбрасывая шлем. – Только не это!
– Что случилось? – спросил Амадей. Он сидел за столиком и играл в шахматы с хорошенькой мышкой из мышкетерского отряда, ушедшей в отпуск.
– Всюду любовь, – стонал Лаэрт, – всюду! О, как она мне надоела!
– Шах, Амадейчик, – промурлыкала мышка.
– Белые вводят четвертую ладью, – сказал кот. Он сделал ход и продолжал, обращаясь к вам пиру: – Если тебе не нравится виртуальный иллюзион, так и скажи. Я бы на твоем месте утащил Изольду, не раздумывая.
– Не люблю быть злодеем, – проворчал Лаэрт.
– Эта игра, – назидательно объяснил кот, – хороша тем, что ты можешь быть кем угодно и можешь оставаться в ней, сколько тебе влезет.
– А меня она раздражает, – упрямо твердил Лаэрт. – И потом, я уже прикончил лягушку.
– Да? – раздумчиво молвил кот, ставя шах мышке. – Лягушка – это, наверное, кто-то из предыдущих игроков. По-моему, ее там не было.
– Мне пора домой, – расслабленно протянул Лаэрт и поднялся в воздух. – Всего хорошего, пушистый.
– И тебе того же, кровожадный, – отозвался кот и вернулся к игре. Он вгляделся в доску и недоуменно вскинул брови. – Что такое? Черные совращают моего ферзя?
Лаэрт выпорхнул в окно, пошел по стене (вертикальной, как все стены) и, добравшись до своего этажа, юркнул в форточку. Вампир изнывал от скуки, потому что Филипп куда-то запропастился, и Лаэрту не с кем было ругаться. На всякий случай он показал нос зеркалу, в котором ничего не отражалось, но оно и на этот раз не удостоило его ответом. Неожиданно в соседней комнате раздался хрустальный звон, словно на пол уронили что-то хрупкое и чрезвычайно дорогое. Лаэрт подпрыгнул до потолка и нырнул в стену. Радость распирала его. Едва не устроив короткое замыкание, вампир вынырнул из стены и описал восьмерку в воздухе, собираясь плавно спланировать на шею Филиппу и гаркнуть ему в ухо: «Где же ты пропадал, старина?»
В комнате было темно: хозяин опустил черные стекла. Он сидел на диване; разбитые мыльные пузыри в беспорядке лежали у его ног. Локти Филипп поставил на колени, а руками обхватил голову. Он был такой несчастный и такой красивый, что просто загляденье, и Лаэрт, стараясь не тревожить его, мягко приземлился на пол. Филипп шевельнулся, опустил руки, которые бессильно повисли, как плети, и Лаэрт испугался. Он никогда еще не видел своего покровителя таким.
– А я у Амадея был, – сказал Лаэрт неловко, когда молчать было уже невозможно.
Он сел на краешек дивана. Филипп погладил его по голове. Глаза у Лаэрта стали совсем круглые и жалобные.
– Что же, хозяин, вы… вы ее нашли?
– Нашел.
Филипп не произнес этих слов; Лаэрт догадался, что он хотел сказать, только по беззвучному движению его губ.
– Такая буря, такая буря была, – торопливо заговорил вампир, – и град, и ураган, и просто тихий ужас…
– Все кончено, – сказал Филипп. – Этого больше не будет. Я обещаю.
– Почему? – спросил Лаэрт жалобно. – Почему не будет?
– Потому что – все, – ответил Филипп беспомощно.
Лаэрт уткнулся лбом в его плечо и зарыдал.
– Она вас не любит, – проговорил он, всхлипывая. – Все дело в этом, хозяин?
– Она? – как-то странно переспросил Филипп, глядя прямо перед собой строгим, застывшим взглядом. Лицо его постарело, в углах глаз обозначились морщинки. – Да. Конечно. Она любит меня. Просто, знаешь, она хотела меня уберечь. Разве я просил ее об этом? Но теперь все. Я сам больше не люблю ее, Лаэрт. Знаешь, она сказала мне, что она цветок.
Лаэрт вздрогнул.
– Правда, странно? И еще она говорила… говорила мне, что я ей дороже всех на свете. Я так хотел быть дорог кому-то, даже ей. – Филипп рассмеялся, и его смех резанул Лаэрта по сердцу. – Но ведь она не человек. Может быть, больше, может быть, меньше, но все равно не человек. Почему же свой последний полет я посвятил ей? Я не понимаю этого, Лаэрт.
– Вы… вы расстались с ней? – спросил вампир.
– Она ушла, – сказал Филипп горько. – Я больше никогда не увижу ее. Почему, Лаэрт? Почему?
Лаэрт отстранился, избегая молящего взгляда хозяина.
– Оставь меня, – сказал Филипп, отворачиваясь.
Лаэрт подошел к двери и бережно притворил ее за собой. Филипп даже не заметил эту странную перемену в поведении друга. Он думал об Аде, о радуге, о девушке, представшей перед ним среди пластмассовых кустов и колючей проволоки.
«Я никогда не должен был покидать тебя. Никогда. Зачем, зачем я сделал это?» И он не находил ответа. «Голокожее бесхвостое двуногое – так, кажется, говорил Амадей? Вот именно. Я поступил, как голокожее бесхвостое двуногое. Ада, как бы я хотел выразить всю мою любовь к тебе! Но теперь уже поздно… слишком поздно».
Он очнулся от своих мыслей только тогда, когда услышал выразительный кашель. Лаэрт стоял в дверях с увесистым рюкзаком, из которого торчали лыжи, удочки и еще какие-то туристские приспособления.
– Ты куда? – спросил Филипп.
– Пообщаюсь с народом, – уклончиво ответил вампир, – поброжу по белу свету, погляжу, что на нем делается.
– Ты уходишь? – спросил Филипп.
Лаэрт вздохнул и свесил голову.
– Но… – Филипп остановился. – Что ж, счастливого пути. Ты всегда был свободен.
Может быть, Лаэрт думал, что Филипп попытается удержать его. В глазах вампира блеснули багровые искры и погасли. Он взвалил рюкзак на спину.
– Мне жаль тебя, Филипп, – сказал он. – Но ты сам себя предал.
Юноша слышал, как входная дверь пропустила Лаэрта и спросила у него, когда он вернется. «Прощай, прощай», – пропели приятные голоса, и Филипп улыбнулся Аде. В его местах она всегда была рядом, и он продолжил воображаемый диалог с ней:
– Полюби меня навсегда.
– Навсегда?
– На один месяц.
– Месяц – это вечность.
– На один день…
– И только?
– Нет; не люби меня совсем, я сам буду любить тебя. Обещаю, моей любви хватит на нас двоих. Я не прошу у тебя признательности, Ада.
Солнце заходило за островок, на котором когда-то стоял маяк. В этот миг Филипп очнулся от своих грез. По привычке он позвал Лаэрта, но не услышал ответа и решил, что тот, должно быть, спит или куда-то ушел. Влажная тишина окутывала квартиру, тишина, от которой хотелось выть, хотелось кричать. Филипп обошел комнаты, отворачиваясь от окон, сквозь черноту которых все же просачивались редкие солнечные лучи; каждый шаг стоил ему неимоверных усилий. В гостиной он задержался перед зеркалом, о чем-то напоминавшем ему. Зеркало было пустое и мертвое; в глубине его ничто не отражалось. Филипп протянул руку и с любопытством потрогал холодную, гладкую поверхность. Зеркальная гладь прояснилась и сложилась в строгое лицо. Непрозрачные глаза смотрели прямо на Филиппа.