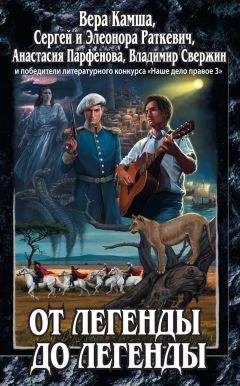Парис с трудом подавил странный хрип, похожий на стон, и поднял руку, намереваясь протянуть яблоко Афродите…
И вдруг будто туман заволок поляну, и сквозь дымку испуганный царевич увидел побережье у стен родной Трои, чужие корабли, огромный лагерь под городскими стенами, обезображенное тело любимого брата. Отец, гордый царь Приам, вымаливал у врага труп Гектора. Увидел гигантского деревянного коня, которого троянцы, должно быть, лишившиеся разума, сами вкатывают в город через пролом в стене. Он видел вражеских воинов, среди ночи выходящих толпой из чрева коня. Пылающая Троя была перед его глазами.
«Ты говоришь так, потому что не дано тебе предвидеть, чем обернется всякое твое деяние. Теперь же ты будешь ЗНАТЬ. Это тебе мой дар, моя благодарность», — вспомнились царевичу слова мойры.
И Парис отшатнулся от богини любви, будто Тифон, чудовище бездны, предстал вдруг перед ним.
— Ты выберешь меня! — услышал он другой голос, непререкаемо властный. — Я — прекраснейшая! Выбери, и не будет в мире полководца, который сможет противостоять тебе. Из края в край пронесется твоя колесница, и народы склонятся перед великим победителем. Так говорю я, Афина! Слово мое — закон.
Парис осторожно перевел взгляд на вторую соискательницу драгоценного плода. Обнаженное тело ее дышало силой. Гордо посаженная голова с аккуратно уложенными, черными, как безлунная ночь, волосами была прекрасна строгой безупречной красотой, перед которой хотелось преклонить колени. Даже нагота была не в силах победить этой внутренней строгости, словно Афина была облачена в невидимый бронзовый панцирь. Парис еще раз оглянулся на Афродиту, вспоминая воинов с обнаженными мечами, выходящих из чрева деревянного коня, пылающую Трою, и протянул было яблоко чернокудрой богине…
Туман вновь сгустился перед его глазами, и Парис увидел коленопреклоненных мужей в диковинных драгоценных одеждах. Лица их были печальны, глаза хранили следы недавних слез. Незнакомцы склонялись пред завоевателем, слагая к ногам оружие.
— Вот и еще одна страна у моих ног, — устало, даже с каким-то внутренним раздражением произнес он, оборачиваясь к одному из своих военачальников. — Как скучно. Что там впереди?
— Море, государь мой. Только море.
— Я велел отрядить корабли, чтобы узнать, есть ли земля там, за этими водами.
Он не договорил. Расталкивая стражу и пленных, к трону Париса прорывался запыленный гонец.
— Пропустите его! — вставая, скомандовал грозный полководец. — Я знаю тебя. Ты Целий, сын Митарха, колесничий моего брата Гектора.
— Да, мой повелитель, я был им. — Гонец черной вести устало пал на колени и склонил голову, точно подставляя ее под удар. — Должно быть, я первый, кто добрался до тебя, и, вероятно, единственный.
— Ты сейчас из Трои?
Серое лицо колесничего почернело.
— Три десятка гонцов посылал к тебе Гектор. По одному каждый день, пока держалась Троя. Я был последним. На тридцатый день осады взбунтовавшиеся ахейцы, лидийцы, фракийцы и все прочие, кто пришел с ними, ворвались в город… Парис, мир пылает за твоей спиной. Два года я добирался сюда, на край света. Два года искал твое победоносное воинство. Реки крови указывали мне путь, и объевшееся воронье было моим спутником. Я видел сотни мятежей и десятки восстаний там, где пронеслась твоя колесница.
Ты победил всех, но Трои больше нет. Пожар семь дней пожирал ее. И не было никого, кто мог бы его потушить. Сердце мое разорвано в клочья. Ибо видел я, как ликовали мятежные ахейцы, влача тело брата твоего Гектора за царской колесницей. Теперь можешь казнить меня. Я исполнил свой долг.
Парис закусил губу и повернулся к ждавшим приказа военачальникам:
— Возвращаемся!
И тут один из коленопреклоненных царей — ступеней у трона повелителя — вдруг распрямился, хватая лежащий в куче сваленного оружия меч. Короткий взмах — мир вспыхнул и померк в очах Париса…
— Вот видишь, — услышал он новый женский голос, — любовь и военная слава — ничто, суета. Лишь власть — единая непререкаемая власть — имеет значение! Посмотри на Зевса. Разве мой супруг не любим всеми, кого он только пожелает? Разве есть войско, способное противостоять ему? Но даже Зевс выбрал меня! Так что не сомневайся, Парис. Только я заслуживаю золотое яблоко, ибо я прекраснейшая.
И Парис обратил свой взор на Геру, самим владыкой Олимпа избранную в жены. Все в ней дышало покоем и внутренней силой — не той, которая гордится рельефной мускулатурой, но той, перед которой покорно склоняются любые силачи. Улыбка на ее мягком и в то же время величественно-прекрасном лице была полна мудрости и знания жизни, которых, пожалуй, недоставало ее соперницам. Царевич вздохнул, не выпуская из рук яблока, и вновь туман сгустился перед ним. И сквозь него, становясь все четче, начали проявляться новые картины.
Шестнадцать слонов, запряженных попарно, под звуки кифар и цимбал влекли за собой настоящий дворец на колесах. По царской дороге, по которой колесницы могли промчать слева и справа от дворца владыки мира, не зацепив его упряжью, сегодня было не проехать. Цари и наместники подвластных великому Парису земель сопровождали его до запретного края. Кони, верблюды, слоны, колесницы, возы обозов, тысячи тысяч людей разных стран и языков следовали за повелителем от самого Вавилона до берегов Геллеспонта.
— Великий государь! Нынче пришла весть от командующего твоим флотом Одиссея.
— Мой друг Одиссей уже достиг Оловянных островов?
— Да, о величайший из великих. Он сообщает, что олова там и впрямь много, но сами острова заселены воинственными дикарями. Эти дикари раскрашивают лица и тела свои яркими красками и оттого называемы пиктами. Увидев корабли, они было изготовились к бою, однако, услышав благословенное имя Париса, возрадовались и устроили пир для самого Одиссея и его людей.
— Хорошо, — кивнул владыка. — Что еще?
— Владыка нубийских земель шлет тебе, светоч вселенной, изъявление своей покорности и прекраснейших дев своей земли.
— Дев, — усмехнулся Парис, оборачиваясь к придворному лекарю. — Асклепий, друг мой. Ты еще не придумал зелья, которое напомнит мне, зачем нужны прекрасные девы?
— Я придумал много зелий, друг мой Парис. Но ни одно из них не может обратить годы вспять.
— Из стран Желтого царя…
— Покорность, покорность, покорность, — скривился владыка владык, жестом приказывая чтецу замолчать. Тот согнулся в глубоком поклоне с видом, полным радости и начисто лишенным подобострастия, так, словно короткое царское движение сделало его навеки счастливым.