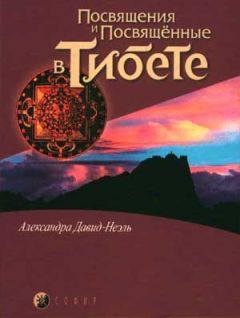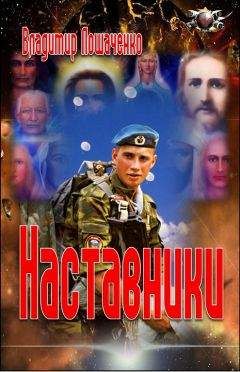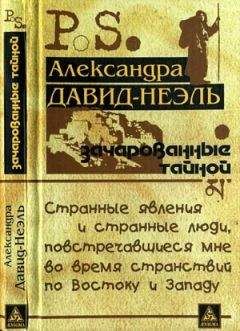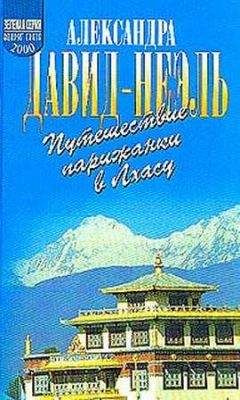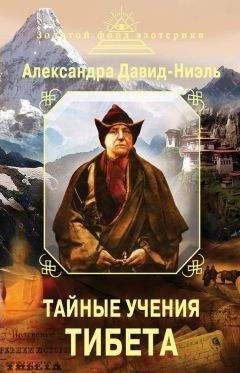В главе IV автор приводит таблицу имен, даваемых при посвящении. Следует учесть, что эта таблица – частный случай. Имя, даваемое ученику при посвящении, определяется учителем-ламой по множеству разных критериев. Зачастую в новое имя ученика входит часть имени его учителя, как своеобразное "отчество".
Автор опубликовала избранные афоризмы Дагпо Лхадже (Гамбопы). В нашем переводе они приводятся полностью. Интересно отметить, что лама Казн Давасандуп начал преподавание тибетского языка Александре именно с этого текста, который они фактически вместе и перевели на английский. После смерти ламы в начале 1922 г. его родственники передали этот перевод и другие материалы г-ну Эванс-Венцу, который опубликовал афоризмы в своем сборнике "Тибетская йога", весьма необычным образом "переработав" перевод.
В своей книге А. Давид-Неэль использовала как транскрипцию, так и транслитерацию тибетских терминов по французской схеме. В русском переводе книги Карма Агван Йондан Чжамцо "Светоч Уверенности" (СПб., 1993) описывается система транслитерации, которую следует порекомендовать читателю для более глубокого понимания содержания предлагаемой ныне книги А. Давид-Неэль.
Александр Бреславец, Санкт-Петербург, 11 февраля 1994 г.
ГЛАВА 1
ТИБЕТСКИЙ МИСТИЦИЗМ
Оападный читатель практически не способен представить совершенно ясную и полную картину мистицизма тибетцев. Широкая пропасть лежит между разнообразными религиозными и философскими концепциями, распространенными в их среде, и тем, что избирается аскетами Страны Снегов в качестве основы для медитации. Само слово "мистицизм", которое я употребляла в предыдущей книге и которым, за неимением более удачного, я буду пользоваться в этой, следует понимать совсем в ином смысле, чем общепринято на Западе, когда речь идет о Тибете.
На Западе мистик – это всецело обратившийся к божественному человек высшего типа, но, кроме того, и любой верующий и поклоняющийся Богу. Таково, по крайней мере, определение, даваемое словарями. Так, во французском толковом словаре Ларусса мы читаем: "Мистицизм. Философское и религиозное учение, согласно которому совершенство можно определить как разновидность созерцания, приводящего к экстазу и к сокровенному единению Человека с Божеством".
В противоположность этому пониманию тибетский мистик, с точки зрения людей Запада, скорее всего, будет выглядеть как атеист. Но, назвав его так, нам следует остеречься связывать с этим термином те чувства и мысли, которые сопутствуют ему на Западе.
В христианских странах веками атеист был редким исключением, некой демонической натурой, случайно появлявшейся в массе верующих. Даже в наши дни воображению многих он представляется как бунтарь, выступающий против Веры и религии, демонстративно отрицая и бросая им вызов. Ничего подобного не было в Тибете, где идея высшего личного Бога никогда не имела особого влияния.
Среди многочисленных божеств ламаистского пантеона ни одно не выступает в качестве вечного всемогущего Существа, Творца Мира. Считается, что эти божества принадлежат к одному из шести классов существ, признаваемых в народной вере. Приписываемые им места обитания не всегда выходят за пределы нашей Земли. Но и тогда, когда их обычным местопребыванием являются другие области пространства, все же, как полагают тибетцы, эти сферы достаточно близки к Земле, так что боги могут вмешиваться в любые земные дела. А потому, из осторожности, следует жить в самых добросердечных отношениях с менее могущественными из них, заручиться милостью более могущественных и добиться снисходительного или нейтрального отношения богов, причиняющих зло, а в некоторых случаях – и противостоять им.
Эта религия, в которой совмещены оказание добрых услуг, выражение почтения и хитрость укротителя льва, не имеет ничего общего с любовью, воспламеняющей некоторых христианских святых, и тем более – со страстными порывами (вырождающимися иногда в чувственность) некоторых индийских бхакти.
Родившись в такой среде, но преодолев ее, сохраняя, однако, в себе некоторые ее черты, тибетский созерцатель покидает общество людей и удаляется в пустынь вовсе не под влиянием сентиментального порыва; и тем более он не думает о том, что в его действиях есть какой-то элемент жертвы. В противоположность человеку Запада, который зачастую ищет прибежища в монастыре, подавив под личиной скорби свои самые глубокие страсти, тибетский аскет, подобно индийскому саньясину, отринув все соблазны этого мира, рассматривает самоотречение как счастливое избавление. В буддийских текстах встречается множество описаний подобного состояния:
– Жизнь домохозяина – истинное рабство, но свободен покинувший дом.
– В глазах Татхагаты все царское величие – не более чем плевок или пылинка. Лесное одиночество полно очарования, и вещи, безразличные толпе, подвижнику приносят радость.
Никакие "восторги" не ждут хладнокровного мыслителя в его уединении, в его хижине или пещере на бескрайних тибетских просторах. Однако экстаз и будет для него тем, во что он всецело окунется. Созерцание работы своей собственной мысли в процессе самоанализа, стирание ее стереотипных функций, по мере того как вскрывается их неистинность, и будет тем, что удерживает его в состоянии чуткой неколебимости день за днем, месяц за месяцем и год за годом до тех пор, пока не прекратится процесс рассуждения2, на смену которому придет непосредственное восприятие.
Когда же бури, порожденные мыслительной активностью и чисто теоретическими умозаключениями, затихают, безбрежный океан разума становится спокойным, безмятежным – ни малейшая рябь не волнует его поверхность. В этом безупречно ровном зеркале явления отражаются "так, как они есть на самом деле"3, и именно это состояние есть отправная точка для целого ряда направлений, в которых не участвует ни обычное сознание, ни бессознательное. Здесь начинается переход в сферу, в корне отличную от той, в которой мы обыкновенно вращаемся. Итак, сделав ряд оговорок относительно значения самого термина, мы можем говорить теперь о тибетском "мистицизме".
Какова бы ни была цель стремлений тибетских мистиков, наиболее поразительное их свойство – дерзость и исключительно нетерпеливое желание испытать свои силы в борьбе с духовными препятствиями или с враждебными оккультными силами. Создается впечатление, что они по своей натуре авантюристы, и я назвала бы их "духовными спортсменами", если здесь уместно применить такое выражение. И в самом деле, столь странное название подходит им более всего: независимо от того, какой мистический путь они отважились избрать, для них он всегда будет трудным и опасным. Спортивный дух, проявленный ими в этой борьбе, не есть обычная религиозная установка, и именно по этой причине он заслуживает нашего внимания. Однако было бы ошибкой считать героями всех тех, кто желает быть учеником гьюд-ламы4 и просит у него особых наставлений [тиб. гдамс-нгаг; произн. дам-нгаг]. Среди кандидатов на предварительное посвящение по-настоящему незаурядных или же иным образом выдающихся личностей довольно мало; большинство из них – обыкновенные монахи, многие из которых, прежде чем приступить к изучению более эзотерических учений, даже не пытались пройти начальное обучение в монастырских школах. Причиной такого пренебрежения может быть недостаточная вера априори в ценность этой "официальной" науки. Возможно и просто, что регулярное чтение книг могло показаться слишком утомительным для значительного числа тех, кто свернул с проторенной дороги.