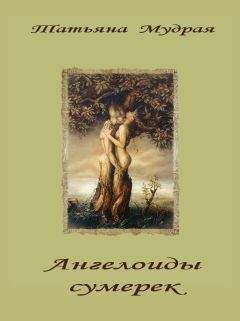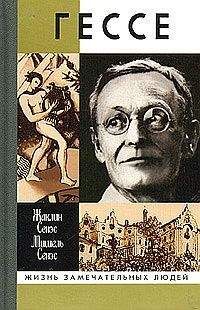А мы вздохнули – и отправились по своим делам. Мужчины в одну сторону, женщины в другую: привилегией всласть бездельничать обладали только я и Хельм.
– Это юный Волчонок на себя девицу выманил, – сказал он.
– Но как раз когда появился отец, – возразил сам Вульфрин. – Может быть, просто совпало, не знаю.
– И как она тебе показалась? – спросил я.
– Такая же, как моя мач… её матушка Абсаль, – он пожал плечами. – Разумеется, гармоничное соединение зоологии с биологией. Естественно, скороспелость – но об этом, как и об интеллекте, можно судить лишь интуитивно и отчасти – по внешнему виду. Яблоня приносит свой первый плод в три года, а живёт при хорошем уходе столько же, сколько человек при плохом.
Это он подхватил слова Абсаль, какими она описывала саму себя, подумал я.
– Наследование информации на уровне генов – и то от матери, – продолжал он.
– И Великого Подсолнуха, – добавил Хельм. – Он ведёт себя не очень предсказуемо, заметил, Анди? Хотя ни один чёрт не скажет, какими сведениями он поделился с ребёнком.
– Надеялся, что вы заметите в этом древесном лягушонке хоть что-то от меня, – я пожал плечами. – Все прочие сумры как сумры – прямое продолжение человечества. Один я уникален, непредсказуем и, по всей видимости, так же размножаюсь. Единственный искусственный самоцвет в постоянной игре естественных.
– Игре – это потому что сумры постоянно меняют символы своей идентификации? – спросил Хельм и даже не запнулся на трудном слове.
Я самую малость, но сокрушался, что застрял на служебной лестнице, и он знал это прекрасно.
– Пап, я почему ты говоришь, что Сэлви – лягушонок? – недовольно спросил Вульфрин. – Она умница, хорошенькая и похожа на нимфу.
– Скорее на эльфа. Как хулиган Пэк у Шекспира, – ответил я. – Хотя никто из них не думал внутри дерева прятаться. Это и вообще другая сказка.
Только вот меня как раз пускали на постой, подумалось мне. И кое-какие из прежних людей и нынешних Сумеречников поселялись внутри деревьев на неопределенное время, объединяя обе сущности, – чтобы ждать.
«Ждать Суда, – произнесло нечто во мне. – Ты думаешь, всё уже прошло и быльём поросло?»
Потом я, всеконечно, извинился перед сыном, сделав упор на то, что Пэк – самый умный в пьесе «Сон в летнюю ночь», потому что дурачит всех прочих. В самом деле, никто из нас не пробовал подключаться в информационному шару напрямую – не дай Бог, мозги закоротит…
И, разумеется, Вульфрин без натуги меня простил и остался с нами. Может быть, он и не успел проникнуться близкородственными чувствами от маковки до самых пят, но тут перед ним маячил природный эксперимент не чета тем лабораторным, что проводились в его учебном заведении.
В общем, он так у нас в доме и застрял. Поскольку там была одна комната, причём небольшая, и промежуток меж дверьми, мы устроили Вульфи у камина рядом с собой. Он и на сени соглашался, но такого мы с женой не допустили. А прибиваться к Бет он не захотел – его мамочка везде существовала на птичьих правах, то есть где застанет работа, там и заночует. На крыле и под крылом, так сказать: это я намекаю, что она отлично выучилась летать, в отличие от нашего общего сына.
Чем он промышлял с утра до вечера?
В основном бродил по московскому лесу, будто раньше не нагулялся. Имею в виду – до своего академического отпуска. Иногда целовался с березками и осинками, собирал свежие и прошлогодние шишки, мерил собой глубину болот и мокроту снега – в общем, вёл себя как амбивалентно, так и стандартно. А когда возвращался под отчий и мачехин кров – как бы ненароком гладил кору одного из мужских деревьев, иногда садился на корень и тихо наигрывал на самодельной дудке «тростниковую», «ивовую» или «глиняную» мелодию, не имеющую ни склада, ни привычного лада, но тем не менее – чарующую. Но на саму поляну не ступал.
А Сильвана с того раза больше не показывалась.
То есть это мы так думали: зондировать мозг обоих детей казалось нам делом неловким и почти постыдным.
В разгар весны мои криптомерии зацвели: лимонно-жёлтая пыльца осыпала крону среднего деревца как пудрой. От неё шишки округлились и потяжелели ещё больше, стали бледнеть и как бы распухать от семян.
Так длилось всё лето – именно тогда я впервые усомнился в том, что знаю моего сына хоть сколько-нибудь.
Как-то меня вызвали, чтобы на месте продемонстрировать эффективность нового лабораторного мутанта. Выращенный из вируса «амброзийной лихорадки», он бурно совокуплялся с любым искусственным веществом, создавая массу своих подобий и вовлекая в круговорот всё бо́льшую массу хлама. Однако стоило элементарно ограничить его стенками из природного материала, чтобы лишить пищи, как он послушно замирал. На океанском дне вирус работать, естественно, не мог: этих глубин достигало своими радиоактивными контейнерами одно человечество.
Впрочем, никто не обещал нам панацеи.
– Когда Ахнью примется за работу, это будет похоже на мгновенное окисление, – сказал один их тех, кто демонстрировал.
– Пожар? – спросил я.
– Но мимолётный, на самом деле, – утешил он. – Буквально доли секунды – потом пройдёт дальше или прекратится. Похоже на воспламенение спирта или пороха: не успевает ни задеть лежащую под ним поверхность, ни оставить копоти. Температура окисления не настолько высока, чтобы вовлечь в процесс то, что непричастно. Однако сам Ахнью без вреда для себя выдерживает условия, в которых погиб бы любой прион.
– Например, купание в вулканической лаве, – добавил я с какого-то бодуна.
– Нет, воду они не слишком любят, эти перцы, – невпопад ответил мой собеседник.
Вот так говорим друг с другом мы, сумры: имея перед глазами одну и ту же картину. Как зародыши летучего огня проникают из наземного вулкана в подводный, проходя через объединяющий их слой магмы или тяжёлую цепь адских озёр. А потом вскипают на поверхности одной из плавучих нефтяных линз, одетых в панцирь из криксита…
С такими мыслями и под воздействием подобных представлений я возвратился домой. Ночь стояла ясная – казалось, мои глаза просвечивали насквозь любой лист и любую травинку.
Левитирую и приземляюсь я давно без шума – естественно, по сумрским и скотским критериям: привык к тому, что меня слышат весьма чуткие уши. Но этих двух, стоящих в центре заповедной полянки, не потревожил бы и выстрел из базуки.
Сэлви во всей своей нагой прелести стояла, прислонившись к родимому стволу, который, видимо, под её тяжестью, вогнулся наподобие мелкого кресла. Вульфрин, одетый уж никак не затейливей, обхватил руками сразу обоих и, судя по ритму его стараний, надеялся вскоре перепилить криптомерию пополам.