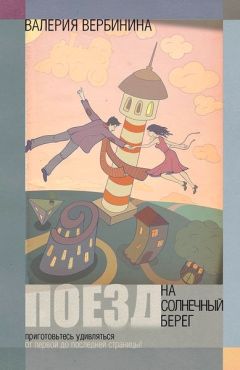Юноша словно раздвоился: душа жаждала движения, но тело, изломанное долгой болезнью, молило о покое. Ноги передвигались словно деревянные, и все–таки душа вела за собой тело. Мозг принадлежал обоим; он походил на черно–белое шахматное поле, на котором сражались паладины души и приверженцы тела, рубя, кромсая и опровергая друг друга.
– Посмотри, какая мягкая мостовая. Какой прелестный уголок! Да–да, надо лечь и уснуть. Мы так устали, не правда ли, Филипп? Ужасно! – вещал солдат–подхалим неопределенного цвета. – Отдохнуть, отдохнуть…
Но с фланга уже стремительно налетала неприятельская кавалерия верхом на слонах и, врубаясь в ряды телесных сторонников, производила среди них весьма значительные опустошения.
– Вперед! – вопил офицер – сторонник души. – Не останавливаться! Раз–два, раз–два! Я вас! Филипп, мы с тобой! Не слушай этих лопухов, этих лодырей, этих оборванцев (он уже насадил противников на пику, и они свисали с нее, точно шашлык). Главное – движение! Слушай мою команду! Ать–два–три! – И он дудел на трубе какой–то невыносимый для уха призыв.
Филипп споткнулся и едва не растянулся на мостовой. Всё смешалось и исчезло. Пусто и гулко, как под куполом, стало в голове, и в эту пустоту струился звук его сердца, точно песчинки в песочных часах, отмеряющие вечность. Молодой человек стоял на изгибе улицы, а перед ним, ослепительно сияя в лучах двух солнц, красовался громадный дворец из чистого хрусталя. Все его этажи играли один и тот же мотив, жуткий и заунывный, – траурный марш. Филипп сделал шаг назад.
«Это не он. Это не мой дом».
Дворец умолк и, казалось, разглядывал незнакомого бродягу. Филиппу стало зябко, он засунул руки в карманы. Роскошный черный аэромобиль перед входом поджидал хозяев, распахнув дверцы.
Филипп оглянулся – вокруг не было ни души.
Приняв вид человека, не знающего, куда себя деть, Фаэтон в три приема приблизился к машине. Аэромобиль не издал сигнал тревоги и вообще не шелохнулся. Казалось, он в упор не замечал Филиппа.
– Добрый день, – сказал молодой человек, зачем–то кашлянув.
Аэромобиль фыркнул и на мгновение осветил его фарой.
– Вы что–то сказали? – осведомился бортовой компьютер.
– Добрый день, – повторил Филипп. – Правда, я не знаю, день сейчас или ночь, но думаю, это неважно.
Компьютер хмыкнул.
– Для кого как, – сказал он многозначительно. – Кстати, я узнал вас, Филипп, но должен предупредить, что признательность не входит в комплект поставки. Вы были неплохим хозяином, но сейчас числитесь в списках изменников категории А, особо опасные, а я, как добропорядочный гражданин, не желаю иметь ничего общего с изменниками. Засим извините, у меня дела.
– Ты изменился, – отметил Филипп.
– Вы тоже, – сухо ответствовал компьютер. – Да, если это вас не затруднит, я просил бы обращаться ко мне на «вы». Тыканье как–то унизительно для такого высокоразвитого создания, как я, учитывая, что мой мозг способен проделывать миллиарды операций в секунду и при этом ни на миг не напрягаться над тем, что я делаю.
Филипп вспомнил о черно–белой доске и не нашелся, что ответить.
– Надеюсь, вы не собираетесь меня угонять, – продолжал компьютер, – это было бы глупостью. В память о нашей прежней дружбе я, пожалуй, забуду об этой встрече, хотя она и компрометирует меня. Взамен я попрошу вас только об одном: удалиться. Вы всегда были неглупым молодым человеком, Филипп, так что поймете меня правильно.
Филипп, казалось, не слушал, что ему говорили. Аэромобиль вздохнул и укоризненно пошевелил дворниками.
– Да, я был, – сказал Филипп, вскидывая голову. – Но кто же я теперь?
– Филипп, – ответил голос совсем близко от него.
Голос был знакомый, спокойный и ровный, и все–таки юноша вздрогнул. Пончик, улыбаясь, стоял возле машины, покручивая на пальце дорогой брелок. Весь облик Ляпсуса говорил об удовлетворенном честолюбии, насытившемся самолюбии и тщеславии, после долгих мытарств наконец получившем признание и из недостатка ставшем неоспоримым достоинством. Это был Пончик, но в то же время и совершенно другой человек. Один его вид, уверенный и излучающий довольство, порождал в душах тех, кто с ним соприкасался, беспокойство и зависть. Каждый мучился, сравнивая себя с этим счастливцем, проклинал его, призывал обрушиться на него какое–нибудь несчастье, которое наконец сотрет лоск с этой блаженной улыбающейся физиономии. Некоторые, может статься, ночами не спали, ворочаясь с боку на бок и прикидывая, чем их обделило скупое провидение, что они не смогли стать такими же, как Пончик Элегантный, Пончик Нагловатый, Пончик Вездесущий, Пончик Всесильный. Филипп не принадлежал ни к тем, ни к другим. Смутное беспокойство, которое он ощутил, было совсем другого порядка, однако Фаэтон пересилил себя и улыбнулся. Он хорошо помнил, чем в прошлый раз закончилась их встреча, и внутренне был готов ко всему. Пончик же, казалось, уже успел обо всем забыть.
– Зашел проведать? – спросил Пончик.
– Просто шел мимо, – ответил Филипп. – Как твои дела? – Он заранее знал ответ, до того, как тот прозвучал.
– Великолепно. А твои?
– Хорошо. Пончик тоже знал, что скажет Филипп, и не мог удержаться от улыбки. Наше снисхождение поднимает нас в собственных глазах, – с этим ничего не поделаешь.
– Я слышал, у тебя были неприятности, – сказал он и положил руку на плечо Филиппа. – Я рад, что у тебя все утряслось.
Филиппу неудержимо хотелось проснуться. Он понимал, что это не сон, но желание становилось неодолимым. Он повел плечом, и рука старого друга сползла с него, как змея. Пончик улыбнулся еще шире. Филипп вскинул голову. Их улыбки скрестились, как шпаги, и неожиданно улыбка Пончика угасла, а взгляд стал косым и тревожным: по ступенькам сходила Матильда. В этот холодный день на ней было пальто с меховым воротником. Филипп различал – до малейших подробностей, – как подрагивает рука его бывшей невесты, сжимающая воротник на груди, как от ее дыхания колышутся длинные волоски неведомого зверя. Он отвел глаза. Облака бежали по небу, бросая на троих людей, стоявших внизу, движущуюся тень.
– Здравствуй, Филипп, – сказала Матильда буднично и как–то безучастно.
Тот наконец осмелился взглянуть ей в лицо. Ему показалось, что дочь Вуглускра похорошела, и он открыл было рот, чтобы сказать ей об этом.
– Моя жена, – представил ее Пончик с торопливой готовностью.
Слова упали неловко, как большие камни, но они сделали свое дело. Филипп знал, что не имеет никаких прав на Матильду, и все–таки ему стало больно. Он бежал бы в тот же миг, чтобы не мешать их счастью, но гордость велела ему остаться и, если понадобится, выпить чашу унижения до дна.