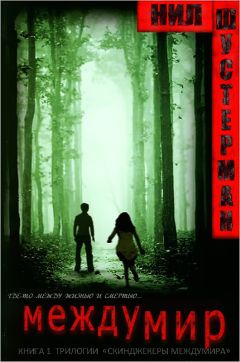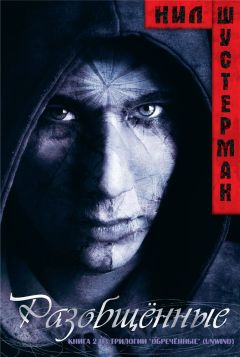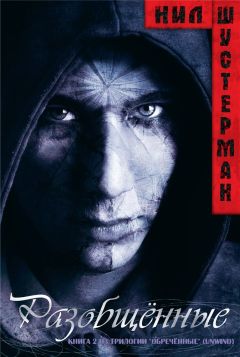— Ах вот как. Ты, значит, врёшь по всем фронтам, не только мне.
— Это не враньё. Это дезинформация, — невозмутимо отвечает Трейс. — После собрания я отправился на разведку. В вестибюле у них стоит мраморная стела с именами всех бывших президентов организации; некоторые из этих имён ты наверняка бы узнал — всё акулы бизнеса как до войны, так и после. Но одного имени там не было. Его попросту затёрли и даже не потрудились как-то замаскировать пустое место. А потом я наткнулся в саду на скульптуру, изображающую основателей организации. Там красуются пятеро голубчиков, а пьедестал явно возведён для шестерых. На том месте, где стоял шестой, так и остались пятна ржавчины.
— Дженсон как-его-там?
— Рейншильд.
Коннор пытается сообразить, в чём тут дело, но ни до чего не додумывается.
— Черт-те что. Если им так хотелось, чтобы он исчез, то зачем оставлять следы на мраморе? Почему бы не сделать новый пьедестал?
— Потому что, — отвечает Трейс, — они не просто хотят, чтобы он исчез. Они хотят, чтобы члены организации знали, что это они его... «исчезли».
Несмотря на жару Коннору становится холодно.
— А какое всё это имеет отношение к нам?
— Перед моим отъездом обратно, пара более дружелюбно настроенных «костюмов» повела меня в свой приватный клуб. Ну, скажу я тебе, и местечко! Там подают такую выпивку, что ты её даже на чёрном рынке не достанешь: настоящая русская водка, текила, сделанная до того, как исчезла агава... Пойло, должно быть, стоит штуку долларов за рюмку, а эти господа хлебали его как воду. Когда они как следует назюзюкались, я спросил про недостающую статую. И один из них выболтал имя Дженсон Рейншильд, а потом заволновался, что проговорился, и они тут же сменили тему разговора. Я подумал, на том и конец... — Трейс останавливает джип, чтобы иметь возможность, продолжая рассказ, смотреть прямо в глаза Коннору. — Но когда я собрался уходить, один из них сказал мне такое, что я до сих пор не могу выкинуть это из головы. Он похлопал меня по плечу, назвал приятелем и сказал, что расплетение — это нечто большее, чем просто медицинская процедура, что это — самая суть нашего образа жизни. «Граждане за прогресс» посвятили себя его защите, — заявил «костюм», — и если тебе дорога твоя голова, мой тебе совет забыть имя, которое ты сегодня услышал».
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
«Я была на попечении государства. Меня отправили на расплетение, и я ударилась в бега. Это значит, что я не должна была бы сейчас существовать. Ты, наверно, думаешь, мне повезло. Но из-за того, что я предпочла жить в цельном виде, четырнадцатилетняя Морена Сандоваль, отличница с блестящим будущим, умерла — ей не досталась печень, которую она могла бы получить от меня. Джеррин Стейн, отец троих детей, умер от инфаркта, потому что своё сердце я оставила себе, а не ему. А пожарный Дэвис Мэйси погиб от удушья, потому что ему нечего было имплантировать взамен его сгоревших лёгких.
Я жива сегодня, потому что сбежала от расплетения, и мой эгоизм стоил этим и многим другим людям жизни. Моё имя Риса Уорд, я беглый расплёт, и теперь я вынуждена жить с сознанием того, скольких невинных людей я убила».
Оплачено организацией «Граждане за справедливость».
Хэйден таращится на экран компьютера, пытаясь как-то уложить в уме эту «социальную рекламу». Может, это какой-то розыгрыш? Но он знает — это вовсе не шутка. Хэйден рад бы рассердиться на Теда, этого въедливого инет-сёрфера, который и привлёк его внимание к объявлению, но не получается — мальчишка-то в чём виноват?
— И что будем делать? — спрашивает Тед.
Хэйден оглядывает КомБом. Все восемь его сотрудников смотрят на своего начальника так, словно в его силах убрать это объявление из Сети.
— Вот предательница проклятая! — выкрикивает Эсме.
— Заткнись! — прикрикивает на неё Хэйден. — Все заткнитесь, дайте подумать.
Он пытается измыслить объяснение. Может, Риса не имеет отношения к этой рекламе? Может, это трюк, придуманный, чтобы деморализовать их? Но правда кричит громче любых измышлений. Риса публично выступает в защиту расплетения. Она перешла на другую сторону.
— Нельзя, чтобы Коннор узнал об этом, — говорит он наконец.
Тед с сомнением качает головой.
— Но это же везде: и по телеку, и в сети — с самого утра! И оно не одно. Она сделала целую кучу таких объявлений. И интервью!
Хэйден меряет шагами тесное пространство самолёта, пытаясь собрать разбегающиеся мысли.
— Хорошо, — говорит он, принудив себя успокоиться. — Хорошо... Все компьютеры с доступом к Сети собраны здесь, в КомБоме, и в библиотеке, так? А телек в Рекряке показывает то, что туда передаём мы.
— Ну да...
— Угу... А можем мы, до того как передавать в эфир, прогонять всё через программу распознавания лиц и вычищать то, что касается Рисы? Есть у нас такой софт?
Несколько секунд все молчат, наконец заговаривает Дживан:
— У нас немерянные залежи старых военных программ безопасности, распознавание лиц там должно быть. Наверняка я смогу слепить из них что-нибудь.
— Давай, лепи, Дживс. — Хэйден поворачивается к Теду. — Обруби связь с Рекряком и библиотекой, пока мы не наведём порядок. Чтобы вообще не было ни доступа в Сеть, ни телевизионных трансляций, ничего, понял? — Гул всеобщего согласия. — И если кто-нибудь из вас ляпнет об этом кому-то хоть словечко, я лично прослежу, чтобы этот гад до конца своей недолгой жизни выскребал сортиры. Так что бомба-Риса с нашего бомбардировщика сброшена не будет, comprende[32]?
Опять все соглашаются, вот только Тед никак не отвяжется.
— Хэйден, там было что-то такое... Не знаю — ты заметил? Ты видел, как она...
— Не видел! — обрывает его Хэйден. — Ни черта я не видел. И ты тоже!
Слова человека из «Граждан за прогресс» о том, что расплетение — это суть жизни их нации, не идут у Коннора из головы, так же как и у Трейса. Коннор знает — мир не всегда был таким, каков он сейчас; но когда ты видел что-то под одним углом зрения всю свою жизнь, трудно в одночасье изменить свои представления. Много лет назад, когда Коннор не дорос ещё до возраста расплетения, он болел бронхитом, и тот принял хроническую форму. Его родители даже поговаривали о том, чтобы приобрести сыну новые лёгкие, но болезнь ушла сама по себе, и проблема отпала. Коннор тогда так долго и тяжело болел, что забыл, каково это — быть здоровым.
Может, то же самое относится и ко всему обществу?