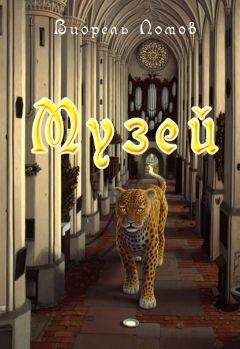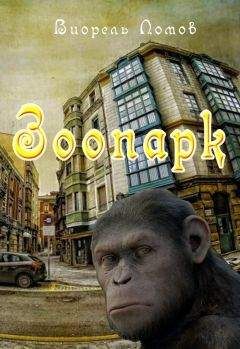«От его хохм и кондрашка может хватить», – подумал я.
В павильоне опять был технический перерыв.
– Что-то часто у них технический перерыв, – сказал я. – Главное, в любое время.
Элоиза рассмеялась.
– Это к продавщице техник приходит.
– Техник?
– Да, зубной.
Так за милой трепотней мы приблизились к музею. День разгорался, и в голубоватом воздухе чертили иероглифы ласточки. Я давно не видел их в городе. К чему бы это, их китайская грамота?
– Что, приезжает китайская делегация? – машинально спросил я.
– Какая делегация? А, ты о них? – Она кивнула на ласточек. – Еще полчаса. Зайдем к тебе, а потом поднимемся в фонды, – сказала Элоиза. – Чтоб ключи не брать, пошли через верх.
Мы зашли в здание, поднялись по лестнице на площадку верхнего этажа, потом через комнату Элоизы вышли на другую площадку, спустились по лестнице на первый этаж. Элоиза рассказывала о Вовчике и Федуле.
– Эту парочку хоть в Книгу Гиннесса заноси. Вовчик на рысь с голыми руками ходит.
– Что-то не верится.
– А тут и не надо верить или не верить. Ходит – и всё тут. Рысь видел? Какой тебе еще нужен факт?
– А это правда, будто Федул оживляет чучела?
– Кто тебе сказал эту чушь?
– Ты.
Элоиза пожала плечами. Мы открыли дверь таксидермиста. В комнате было тихо, рысь молчком стояла на верстаке.
– Забираем газеты и идем наверх, – сказала она.
Элоиза ласково (мне это показалось странным) поглядела на рысь и погладила ее по голове. Потом стала разминать ей шею. Рысь повела головой.
– Так это мы ради газет столько отмахали? – спросил я и снова взглянул на зверя. Нет, показалось.
– Я без газет не могу.
– Согласен. Население до сих пор с ними ходит даже на двор.
– Не подменяй понятия, – Элоиза похлопала Эгину по той части туловища, которая у лошадей называется крупом.
Мы поднялись по лестнице в фонды.
Мне снилась всякая чертовщина…
Мне снилась всякая чертовщина. Будто я еду, как в раскачивающейся лодке, на одногорбом верблюде по Сахаре и постоянно сползаю с горба, то вперед, то назад, а Шувалов с другого двугорбого верблюда кричит мне: «Это ничего! На горбе всяко лучше сидеть, чем на колу! «А сам так уютно пристроился, сволочь! И вот так еду я, еду и вдруг мне стало казаться, что я еду вовсе не на верблюде… И тут налетел самум…
Проснулся я оттого, что мое лицо облизывал горячий язык. Это была рысь.
– Привет, – сказал я ей и она потерлась о меня боком. – Как вас теперь называть? Скажем, Эгина. Мы теперь с тобой, Эгина, образцы смирения и послушания, и нам гарантировано всё на свете. Полный пансион, как в Виндзоре. Извини, сейчас ничего нет, но через месяц будет. Получу первую зарплату, и всё будет. Обещаю.
Я потрепал Эгине загривок, помял складки кожи на шее. От нее ничем диким не пахло. Рысь благодарно лизнула мне щеку шершавым языком, слегка сдавила зубами кисть руки, несколько раз прошлась мимо меня туда и обратно, прыгнула на верстак и там ровно задышала.
Я лежал на продавленном диване и смотрел в потолок с черными разводами. Фотографии я утром содрал и кинул в угол. Они там приняли более натуральный вид: грязи и мусора. Я скосил глаза. Рысь застыла на верстаке. Приснилось, наверное. Но я помнил ощущение влажного тепла, пахнувшего мне в лицо, когда Эгина стала облизывать меня своим горячим языком.
Послышались шаги. Наверное, Элоиза. Интуиция меня не обманула.
– Привет! – сказала она и чмокнула меня в щечку. Ее дыхание чем-то напомнило мне дыхание рыси. – Вздремнул?
– Привет. Вздремнул. Тут как на курорте.
– Я на рынок сбегала, купила фруктов. Айда наверх. Откуда цветы?
– Остаток Федуловых.
Элоиза взяла щетку и расчесала Эгине шерсть. Мне послышалось, как она приговаривала: «Эгина… Эгинушка…»
В помещении фондов было прибрано, пыль вытерта, полы вымыты, штукатурка и дранка выметена на лестничную площадку. Зал был наполнен светом. В чашке блестели мытыми бочками сливы и абрикосы.
Я попытался вспомнить подобный день в моей жизни и не вспомнил. Мало того, я вообще ничего не мог вспомнить. Если в жизни нечего вспомнить, была ли она?
– Что задумался? Давай ешь скорей. Через час комиссия. Будет сам мэр. Проверка готовности музея ко Дню.
Влетел Пантелеев в соломенной шляпе и круглыми глазами оглядел нас.
– Все вниз! Сбор у Салтычихи! Мэр вышел из кабинета!
– Может, он в туалет вышел, – пробурчала Элоиза, – поесть не дадут!
Что же вы, любезный, изволите прохлаждаться…
– Что же вы, любезный, изволите прохлаждаться? – спросила меня Салтычиха. – Вам же было сказано: в девять утра в понедельник ко мне на развод. Уже пять минут десятого.
– На развод? Мы с вами женаты? Да и встреча была, кажется, назначена на прошедший понедельник?
– Да? И почему же вас не было в прошедший понедельник?
Салтычиха оглядывала построившихся в коридоре смотрителей.
– Во втором ряду, Сухова, подравняться! Смотреть в грудь четвертого!
Двенадцать смотрительниц, в основном женщины в годах, выстроились перед нею в две шеренги.
– Мне заслоняет третья грудь! – продребезжала Сухова.
– Отставить! Кто третья грудь?
– Смотритель Шенкель! – Очень крупная женщина с крашеными в иссиня-черный цвет волосами, вторая с правого фланга, положила руку на плечо коллеге в первой шеренге, та сделала шаг вперед и в сторону и пропустила Шенкель вперед. Шенкель застыла перед строем, задрав подбородок и плотно прижав руки к бедрам.
– У вас не по годам развита грудь, Шенкель. Как и все остальное. Надо следить за собой! Придется заняться вами. Пять приседаний на одной ноге. Поочередно. Приступить.
Шенкель присела и встать не смогла. Ей помогли двое.
– Очень плохо. Смотрите! – Салтычиха присела по пять раз на правой и левой ноге. – Встать в строй!
– А вы намерены весь месяц прохлаждаться, как и прошедшую неделю? – обратилась она ко мне.
– Намерен весь месяц трудиться, товарищ начальник! Всюду, куда пошлют, товарищ начальник!
Салтычихе понравился мой ответ. Она всех распустила заниматься приборкой.
– Едет! – влетел Пантелеев, чуть не сбив Салтычиху с ног.
– Да тише ты, черт! Что тебя носит всегда? Подождет.
Мне тоже понравился ее ответ. Неужели нас начинает сближать общее видение проблемы?
Зашел Шувалов.
– А я прикорнул там на втором этаже, – хохотнул он. – Со вчерашнего вечера. Привет, дружище!
Он облапил меня.
– Пантелеев! Почему посторонний? – спросила Салтычиха.
Пантелеев наморщил лоб.
– Безобразие!
– Так точно, безобразие! – отчеканил начальник охраны.
– Опять безобразие? – появился Верлибр.
У него, как у всякого директора, было чутье на безобразия. Видимо, они подпитывали его как администратора.