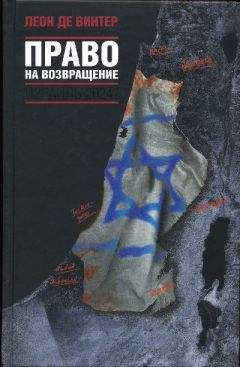— В лекарствах — спасение человечества, — говорил Хартог. — Надо только знать, сколько принимать и когда. Мозги — это необыкновенные электрохимические лаборатории, и при помощи правильных лекарств ими можно управлять.
— А душа? — спросил его однажды Брам.
— На ней ты сидишь, — отвечал Хартог. — На твоем тохесе.[84]
Брам улыбался своим мыслям, пока ждал очереди среди стариков, пришедших за новым сердцем, почкой, искусственной костью. Грубость Хартога часто бывала остроумной, и нередко благодаря этому усиливался эффект высказанной им точки зрения. Но в то же время он мог жестко, безжалостно высказываться по самым незначительным поводам. Браму хотелось бы спросить его про Сола Френкеля.
Через тридцать пять минут прогудел бипер, который Брам получил в регистратуре, когда записывался в очередь. Айзмунд, маленький и сгорбленный, ожидал его в своем кабинете стоя, чуть покачиваясь, опершись на палки.
— Садитесь, господин Маннхайм. Что-то случилось?
— Ничего особенного, отец чувствует себя прилично, так же, как в последние месяцы.
Порядок на столе у Айзмунда был отменный. Бумаги разложены ровными стопками, стаканчик с остро очиненными карандашами, графин с водой и три стакана.
— Что привело вас сюда?
— Много ли больных принимают то же лекарство, что и мой отец?
— У нас — восемьдесят человек.
— И какая дозировка?
— Для каждого пациента разная.
— Что случится, если удвоить дозу?
— Что вы имеете в виду?
— Есть ли вероятность, что у моего отца благодаря этому наступит просветление?
— Это может привести к его смерти, — ответил Айзмунд и поглядел на Брама с подозрением. — Зачем вам это?
— Я хочу поговорить с ним.
— Весьма велика вероятность того, господин Маннхайм, что вам это никогда уже не удастся. — Он окинул Брама изучающим взглядом, словно искал в нем скрытые изъяны. — Вашему отцу сейчас — сколько? Девяносто три?
Брам кивнул.
— Настанет день, когда мы сможем прочищать кровеносные сосуды в мозгу чем-то вроде пылесосов размером с молекулу, но пока нам это еще не под силу. Пока что мы палим по цели вслепую, надеясь получить результат случайно. Мы можем заменять органы и части тела, но мозг остается загадкой. Может быть, к концу столетия — стоит подумать об этом, и я прихожу в восторг. Я до этого не доживу, но наши дети могут ожидать чудес от медицины. Подумайте об этом, господин Маннхайм. У вас есть дети?
— Нет, но моя жена… я хотел сказать, моя любовница, она беременна. И у меня когда-то давно уже был ребенок…
— Вы оставите ребенка здесь?
— Что вы хотите сказать?
— Ребенок, ваш и вашей любовницы, будет расти здесь или вы тоже уедете?
— Мы пока не приняли окончательного решения. — Ответ Брама был полуправдой, он не хотел, чтобы малышка оставалась здесь. Он мечтал о каминах и крышах, покрытых толстым слоем снега. О долгих зимних вечерах, посвященных чтению «Доктора Живаго». О стране, раскинувшейся от горизонта до горизонта, вечной и безграничной.
— Оставайтесь здесь, — сказал Айзмунд и, опираясь на палки, направился к двери, из чего Брам заключил, что разговор окончен.
24
Он возвращался на автобусе в центр Тель-Авива. Снова старики в поношенной одежде и стоптанной обуви. Седые женщины в бесформенных спортивных штанах — неужели так было всегда? Брам вспоминал полных дам с сиреневыми и серебристыми прическами, старательно накрашенных, с выщипанными в ниточку бровями, эффектных и трогательных, наряженных для дневного выхода в кондитерскую, где с русскими или французскими подружками можно обсуждать животрепещущие проблемы: невесток и мировой антиеврейский заговор. Умерли все они, что ли? Или для их существования нужна другая, беззаботная жизнь, в которой нарядные дамы появляются, словно на театральных подмостках, демонстрируя всем, как они заботятся о себе, своих серьгах и кольцах, историях о внуках и отдыхе на пляжах Майами? Их нет здесь больше. Все они теперь там, в Москве, на Тверской, роскошной торговой улице, не уступающей Парижу или Лондону. В чудесных норковых шубках, пальцы унизаны золотыми кольцами с драгоценными камнями; счастливые, они болтают о чепухе: о качествах льняного постельного белья и смешных ценах в новом ресторане на Арбате, где невозможно заказать столик и где племянница знакомой выпала из лопнувшего по шву платья, — какое счастье, что есть еще страна, где подобные дамы могут болтать о пустяках, поедая petit-fours![85]
Он сошел на улице Бен Иегуда, миновал пьяного, обнимавшегося с фонарным столбом, и пошел в сторону «Банка», обдумывая, трудно ли будет заработать на жизнь в Москве пятидесятитрехлетнему санитару «скорой». Вполне возможно, что Эве легче будет найти работу, но и ей придется переучиваться и получать российский диплом. В их возрасте эмигрировать непросто. А через некоторое время появится ребенок, и тогда на его плечи ляжет ответственность, — надо будет заботиться о тепле, о еде, о безопасности. Девочка. Дочь. Ему пришлось остановиться из-за переполнявших его мыслей; голова шла кругом от любви к этой, еще не родившейся, девочке. Он сможет любить ее, не предавая воспоминаний о другом ребенке, — забота о новой девочке не станет предательством по отношению к малышу. Но вдруг он понял — словно с глаз упала завеса и солнце хлынуло внутрь, — что пора оставить малыша в покое. Пора освободить место для девочки, а это возможно, только если Брам отпустит малыша. В сердце своем найдет он укромное местечко, где малыш сможет удобно расположиться, где ему будет хорошо, где никакой О'Коннор не сможет нанести ему вреда. Нужно скрыть малыша от чужих глаз и самому спрятаться от его взгляда.
Глубокий бас гремел внутри так, что слышно было на улице. Он открыл стеклянную дверь банка и вступил во врубленную на полную мощность «Killer Queen»: She's а killer queen, Gunpowder, gelatine, Dynamite with a laser beam, Guaranteed to blow your mind, Anytime!
Он подошел к своему столу позади касс. Икки, сидевший за его «Эпплом», молча поднял правую руку в знак приветствия, а левой быстро убрал громкость.
— Принес чего-нибудь? — спросил Икки.
— Ничего. Хочешь кофе? Я принесу.
— Да, пожалуйста. И бутербродик или что-то вроде.
Брам повернул назад, к двери. И услышал голос Икки:
— Новости тебя не интересуют?
Брам остановился:
— Что ты имеешь в виду?
Икки обернулся к нему, глаза его были полны слез из-за долгой, напряженной работы у экрана.
— Я тут кракнул несколько дерьмовых банков данных. — Он потер глаза, поморгал, снова поглядел на Брама — глаза его постепенно возвращались в нормальное состояние. — Я нашел имена людей, которые работали с твоим отцом. Набрел, блуждая по сети, на три десятка имен. И среди них один русский, Досай Исраилов. Исраилов: смотришь и думаешь, перед тобой — аид.[86] Ничего подобного: это имя часто встречается в Центральной Азии. Мусульманское имя. Наш Исраилов прибыл из Казахстана, эдакий доморощенный гений, когда-то попросивший политического убежища в Лондоне и оттуда попавший к твоему отцу. Потом уехал в Саудовскую Аравию, оттуда попал в Афганистан. Примкнул к талибам, оказался экстремистом-фанатиком, был личным врачом Муллы Омара, — помнишь такого, приятеля Осамы Великого? Брам? Когда американцы после девятого-одиннадцатого прищучили талибов, Исраилов убрался на родину, в Казахстан. До тебя доходит, о чем я?