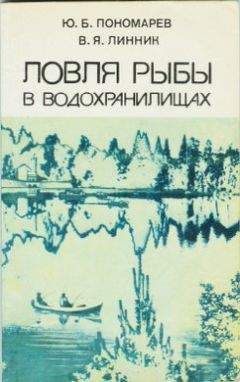Фома тесал камни.
Несколько человек ломали скалы. Длинные сверла, похожие на рыбацкие ледобуры, неустанно дырявили монолит. В отверстия туго забивались хорошо просушенные деревянные колья. Послушницы таскали воду. Разбухая от полива, дерево с пушечным треском рвало камень. Наступал черед каменотесов.
Отец Енох, наблюдавший за работами, присматривался к новому послушнику. Фома был окрещен, получив имя Еремей. Он тесал камень начерно – отец Енох видел, что доверять тонкую обработку ему пока рано. Стены и своды клались без связки, и требования к камню были высоки. Как же можно поручить доводку материала тому, кто бьет по зубилу со злостью?
Нет любви к камню – не будет любви и к человеку, и к Богу. Отец Енох выговаривал строптивому душой послушнику. Еремей скрипел зубами, глядел неприязненно. Правда, в последнее время он вроде бы смягчился и даже сокрушенно кивал, получая выговор, но, надо полагать, притворялся. Опасный человек. Много труда и времени уйдет, покуда смиришь такого.
Смирять… Смирение… Вот уж слова, начисто отсутствующие в лексиконе феодала! Фома был готов настучать Еноху по тыковке. Смириться душой? А с какой, позвольте узнать, стати? Отблагодарить по совести за спасение, за помощь – иное дело. Но горбатиться на спасителей всю оставшуюся жизнь?.. А не пошли бы вы в неудобьсказуемое место?! На форсаже?
Его выходили, этого не отнять. И Оксану выходили – Фома не раз видел ее издали, облаченную в какое-то рубище. Такую же одежду, покроем напоминавшую дерюжный мешок с тремя дырками, носил и он сам. Прежнюю одежду, обувь, вещи, оружие – все отобрали. Попросил было вернуть – сделали вид, будто не понимают, о чем идет речь. Преподобный этот с пузом… у-у, морда! Сразу видно – сволочь. Сам-то небось босиком не ходит, и риза его сработана из нежного кошачьего подшерстка…
Фома не пытался протестовать, повышая голос. Плоскость и люди Плоскости научили его уму. Козыри были не у него.
Досадно, но пусть. Временная отсрочка, не более. Чтобы достичь своего, надо как минимум остаться в живых, а не булькнуть в реку с камнем на шее по шевелению мизинца преподобного. Евпл такой, он может.
От тел и одежд трудников неприятно пахло. Купание разрешалось раз в неделю. Отросшие ногти Фома обкусывал, волосы расчесывал пятерней. Нечем было сбрить бороду. Где обиходные мелочи, скрашивающие жизнь хуторян при вменяемом феодале? Ау! Кормили, правда, сытно, ничего не скажешь. Но ведь рабов надо кормить, иначе среди них заведется вольномыслие.
Послушник или раб – разницы по сути никакой, если нельзя уйти.
И плота уже нет. Рыбарям плот не нужен, у них челны. Бамбук растащили для всяких поделок и просто так. Вон веревка с сохнущим бельем подперта шестом, и шест бамбуковый.
А кузницы нет… Пусть нет и руды – но ведь случается, что люди попадают на Плоскость не с пустыми руками! Есть, есть на Плоскости изделия из настоящего, не эфемерного металла! Иные феодалы выменивают их у соседей и находят среди хуторян спецов по перековке ненужного в нужное. Жгут деревья на уголь. Но большинство обходится эфемерным барахлом…
– Откуда это? – выспрашивал Фома у каменотесов, указывая на зубила, сверла, молотки, наждачные круги и стараясь пользоваться моментом, когда отец Енох не маячил поблизости. – Кто сделал? Как?
– Божьи вещи, – отвечали ему послушники Евстохий, Евфимий, Ермократ и Елеазар, поднимая глаза к небу, и крестились двоеперстно, дивясь бестолковости новичка. – Что тебе непонятно? Откуда взялись? От Бога. Чтобы работать. В этом спасение души.
Поначалу Фома думал, что над ним издеваются. Потом понял: нисколько. Послушников действительно не интересовало ничего, кроме пищи, женщин по особым дням и карьерного роста. Последний означал только одно: шанс когда-нибудь выбиться в монахи и в ус не дуть. Рабский труд – и мысли рабские.
Никто не облегчит душу крепким словцом. Никто не кинется лобызаться с криком: «Друган!» Все чем-то крепко озабочены, и поначалу можно даже вообразить: думу думают. Господи, да о чем можно думать, когда в глазах ни проблеска? О том, что благополучно прожит еще один день, и завтра будет такой же день, и послезавтра, и так до самой смерти?
И какая им разница, чем тостер отличается от крекера? Один лишь преподобный Евпл интересовался, что нынче делается там, на грешной Земле. Но и Евпл удостоил Фому лишь одной беседы.
Разговорчивее других оказался Евстигней, простодушный верзила, в три удара вбивавший кол в издырявленную скалу. Его кувалда тоже, конечно, имела божественное происхождение. Евстигней не понимал одного: почему Бог дарует вещи лишь на время? Почему уже три кувалды, предшественницы вот этой, рассыпались в пыль на его глазах?
– Как ты сказал? – переспросил Фома. – Стоп, я понял. В пыль, значит. А новые откуда берутся? Отец Енох выдает? А ему кто?
Проще было добыть информацию из кошки, чем из Евстигнея. Детина не понимал, чего хочет этот настырный, ковырял в носу и талдычил о божественном. К тому же приходилось быть осторожным, избегая прямых вопросов. Гений кувалды не догадался бы, к чему они ведут, но мог запросто проболтаться отцу Еноху, а тот был вовсе не глуп. Голову на отсечение – Енох регулярно доносил толстому преподобному о поведении нового послушника.
Истина начала приоткрываться, когда Фома завел разговор об истории общины. Поначалу казалось, что и здесь выйдет пшик – об основателе монастыря Евстигней знал только то, что Ефрем был святой. Бог беседовал с ним в ночных откровениях.
Во сне? В каком сне? Евстигней скреб в затылке, соображая и припоминая. Почему во сне? Хотя да, некоторые шепчутся, что и впрямь будто бы во сне. Но это ересь. Господь послал многие знамения, и паства уверовала. Вот и все.
Уже теплее… Любому феодалу ясно, что это за «знамения». Где-то здесь должна быть спальня… Где?!
Неужели прямо в оазисе?
Хотя почему бы и нет? Фома размышлял. Ведь и в его бывшем феоде один из оазисов совпадал с дурилкой. Ни у кого из соседей не было ничего подобного. Из правил почти всегда бывают исключения. Кто сказал, что спальня и оазис несовместимы?
В конце концов удалось понять: «божьи подарки» всегда выносятся из алтаря церкви. Евстигней удивлялся: может ли быть иначе? Откуда же еще, как не из алтаря, куда имеют право входить лишь несколько святых отцов и сам преподобный Евпл?
И на полном серьезе считал преподобного чудотворцем.
– А почему он преподобный при жизни?
– Потому что святой, понятно? Отвяжись.
Фома поспешил перевести разговор на другую тему. О женщинах Евстигней говорил гораздо охотнее. Когда он, сладострастно причмокивая, заговорил об Оксане, Фома едва сдержался, чтобы не заехать верзиле молотком промеж мечтательных глаз.
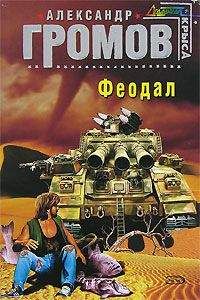
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)