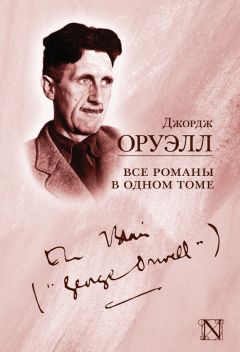– К черту! – в привычном мрачном недовольстве бросил Виктор. – Твой отец вечно против, если я пробую внести в службы хоть каплю жизни. У него ничего нельзя: ни благовоний, ни настоящей музыки, ни подобающих церковных одеяний – ничего! А итог? Даже в Христово Воскресенье к нам почти не идут. Смотришь воскресным утром – никого, кроме мальчишек-скаутов, девчонок-скаутов да кучки затрапезных старушенций.
– Знаю, это ужасно, – кивнула Дороти, любуясь первой пришитой пуговицей. – Кажется, что ни делай, бесполезно, просто совсем не удается приобщить людей к Церкви. Но все-таки, – добавила она, – венчаться и хоронить они приходят. И пожалуй, в этом году не меньше, чем год назад. На Пасху собралось человек двести.
– Двести! Должно две тысячи! Весь город! А в действительности три четверти горожан всю жизнь и близко к церкви не подходят. Вера больше не властвует. Но почему? Я спрашиваю – почему?
– По-видимому, из-за «науки», «свободной мысли» и всего такого, – процитировала отца Дороти.
Замечание изменило курс обличительной тирады Виктора: он уже собирался повторить, что паства Святого Афельстайна тает вследствие страшного занудства богослужений, однако от ненавистных слов «наука-мысль-свобода» речь съехала в наезженную колею.
– Вот именно, так называемая их «свобода мысли»! – воскликнул он и снова начал неистово метаться по теплице. – Все от них, свинских атеистов из шайки Рассела и Хаксли[60]. Еще бы церкви не обессилеть, если вместо того, чтобы громить до основания этих грязных, лживых болванов, мы просто засели в своих норах и позволяем безбожникам всюду сеять их скотские мыслишки. А всё наши епископы!
Как истинный англокатолик, Виктор был преисполнен гнева и презрения к английским епископам.
– Епископы наши – прохвосты, модернисты и карьеристы! Вот так, – резюмировал он слегка успокоившимся, повеселевшим голосом. – Письмо мое, опубликованное на прошлой неделе в «Гласе Господнем», видела?
– Нет, к сожалению, – сказала Дороти, стараясь точно поместить вторую пуговицу. – О чем оно?
– О наших епископах-новаторах и прочей нечисти. Старика Барнса я там здорово поддел!
Практически недели не проходило без письма Виктора в редакцию «Гласа Господня». В пекле каждого боя, в гуще каждой атаки на модернистов и атеистов он дважды доблестно сражался с доктором Мэйджором, не раз испепелял убийственной иронией декана Инге и епископа Бирмингемского, не робел налетать на самого верховного злодея Рассела (трусливый Рассел, разумеется, не принял вызов). Но Дороти, по правде говоря, нечасто знакомилась с его памфлетами, ибо один вид заголовка «Гласа Господня» возмущал Ректора. Из всех газет в его дом доставлялся лишь «Исторический церковный вестник», благородный, несколько старомодный еженедельник с мизерным тиражом для истинных ценителей высокого.
– Скотина Рассел! – процедил Виктор, сощурившись и глубоко засунув руки в карманы. – Ох, как у меня от него кровь закипает!
– Это не тот Рассел, который такой ужасно умный математик? – спросила Дороти. – Не он?
– Ну, в своих алгебрах-формулах он, может, и соображает, – нехотя подтвердил Виктор. – Да что с того? Если кому-то там охота вечно возиться с цифрами, это еще не означает… И вообще – не важно! Давай-ка снова о том, с чего я начал. Так почему ж у нас не получается зазвать прихожан в церковь? А потому что службы наши без чувства и без веры, вот почему. Люди хотят таких богослужений, которые действительно богослужения, они хотят по-настоящему, по-католически прекрасного служения Богу! А что мы им даем? Вместо пищи духовной пичкаем их протухшей скукотищей, хотя всем ясно – протестантщина тупа и холодна, как старый ржавый гвоздь.
– Неправда! – возмутилась Дороти, прикручивая третью пуговицу. – Мы никакие не протестанты, ты отлично знаешь. Папа всегда говорит, что в англиканстве принцип католический, и он уже не знаю сколько проповедей читал о святости апостольского предания[61]. Из-за этого самого к нему не ходят лорд Покторн и другие вроде него. Только с англокатоликами папа тоже не хочет: он говорит, у них ритуальность чрезмерна и самодовлеет. И я так думаю.
– Я же не утверждаю, что отец твой не прав в доктрине – в доктрине абсолютно прав. Но если он принцип считает католическим, то почему бы и обряд не вести согласно истинной традиции? Почему хоть иногда не напоить воздух благоуханным ладаном? Обидно! И потом, его представления о ризах – ты извини, я вынужден сказать – это ж ни в какие ворота! На светлое Христово Воскресенье поверх готической сутаны надел нынешний итальянский стихарь с тесьмой. Это же, черт возьми, как цилиндр с коричневыми туфлями!
– А мне фасон не кажется настолько важным, – сказала Дороти. – Думаю, главное – дух, а не облачение.
– Типичный ответ дубовых методистов! – вскинулся Виктор. – Облачения именно важны необычайно! Зачем священный ритуал, если не выполнять его как следует? Хочешь взглянуть, какой может быть настоящая благородная служба, – зайди к Святому Уэдекинду в Миллборо! Вот это да, вот это шик! И лики Девы Марии, и чаши, и дарохранительницы – ух, красота! Из консистории их уже раза три прихватывали, но они, молодчаги, в ус не дуют, ноль внимания на епископа.
– А мне они противны! – держалась Дороти. – Все напоказ. Так дымят своим ладаном, что еле угадаешь, где алтарь. Таким, как в Святом Уэдекинде, надо бы принимать чистое католичество – без лицемерия.
– А вот тебе бы, дорогая, надо в секту. Честное слово, ты готовая сектантка. Звалась бы Плимутским братом или Плимутской сестрой, или как там еще. Уверен, твой любимый псалом 567-й: «Господи, в вечном страхе пребываю перед высотами Твоими!»
– А у тебя, конечно, 231-й: «Каждую ночь шатер мой разбиваю все ближе к Риму!» – парировала Дороти, замотав нитку вокруг четвертой, и последней, пуговицы.
Спор продолжался еще несколько минут, пока Дороти украшала шляпу знатного дворянина плюмажем (привязывала к собственной старенькой школьной шляпке пучок настриженной бумаги). Они с Виктором не умели поговорить без того, чтобы быстро не впасть в полемику насчет степени допустимой «ритуальности». Дороти полагала, что Виктор, если ему не препятствовать, способен окончательно «скатиться к Риму», и это было очень вероятно. Но сам Виктор не сознавал близости рокового края. Сейчас, когда борьба англокатоликов кипела на трех фронтах одновременно – справа упрямство протестантов, слева нахальство модернистов, а сзади, как ни грустно, вероломство римских патеров, не упускавших случая тихонько пырнуть в спину, – весь его горизонт заполнялся упоительной битвой. Первейшим, важнейшим делом жизни являлось пригвоздить доктора Мэйджора в «Гласе Господнем». Интересно, впрочем, что страсть пылкого рыцаря веры, по сути, не содержала ни грана религиозности. Бурная клерикальная полемика воодушевляла азартом состязания, самого интересного на свете, поскольку в нем не предвиделось конца и разрешалось немножко жульничать.