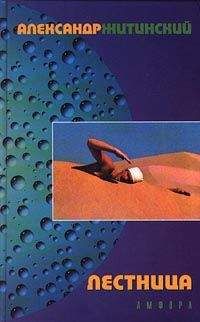«Ясно и ежу, — говорил сам себе Митя, — что ты, Богинов, дилетант и недоучка без особых способностей. Ты просто осел! — продолжал Митя, постепенно свирепея. — Над тобой уже Витька смеется. Ишь ты, тетрадочку привез, уравнения нарисовал, профессор! Ну давай, давай что-нибудь! Ну замени переменные хотя бы… А зачем? Да так просто. Своего рода графомания… Взялся за гуж — полезай в кузов. Назвался груздем — не говори, что не дюж. Виньетку хотя бы нарисуй, крючочек, женскую ножку. Даже этого не можешь, кретин!..»
Так распалял себя Митя и сопел, склонившись над тетрадкой, пока вдруг его перо не вычертило само собою сначала голову коровы с кривыми острыми рогами, потом рядышком оси координат, а в них какие-то траектории — и перо забегало по бумаге, изображая буквы и цифры, а в голове установилось плавное и свободное, как дыхание, течение мысли, ради которого единственно и существуют различные интеллектуальные упражнения, ибо оно дает возможность изредка чувствовать себя человеком.
Кризис миновал. Поздние гости. Письмо. Инцидент за столом. Снова голосаМитя засиделся за тетрадкой до вечера. В светелку вошла Аня и позвала ужинать. Митя потянулся и удовлетворенно похлопал себя по груди. Затем он перелистал шесть исписанных страниц, повторяя рассуждения от начала до конца, а в некоторых особо удачных местах улыбаясь. Аня присела на кровать и терпеливо смотрела на формулы, в которых не понимала ничего. К счастью, она понимала Митю, что было для него гораздо важнее.
— Кажется, в этом что-то есть, — резюмировал Митя. — Башка еще варит… Ведь правда — я не совсем дурак?
Аня молча улыбнулась. Она знала наизусть все слова, какие говорил сейчас Митя. Так он говорил всегда, начиная какую-нибудь работу, когда ему нужно было почувствовать уверенность и утвердиться. Аня знала также, что к концу выкладок Митя будет все неувереннее, а потом и вовсе станет угрюмым и разбитым, закончив труд. Для равновесия Аня подшучивала над мужем вначале и успокаивала в конце. Кроме того, она была личным секретарем Мити. Закончив работу, получив результат и убедившись, что он не столь глобален, сколь замышлялось, Митя обычно терял всякий интерес к исписанным листкам. Тогда Аня заставляла его переписать работу набело, а затем брала ее на службу, где перепечатывала на машинке и вписывала формулы. После этого работа с титульным листом, на котором значилась Митина фамилия, благополучно складывалась в специальную папку.
— Зачем это тебе? — спросил однажды Митя.
— Я покажу Малышу, когда он вырастет.
— А если он ничего не поймет? Кто тебе сказал, что он будет физиком?
— Шизиком… — засмеялась Аня. — Ты очень глупый, Митя. Он поймет, что ты жил. Жил!.. Понимаешь? Иначе что же от тебя останется? Костюм?.. Он просто выйдет из моды.
Впрочем, одну работу она заставила отослать в журнал. Ее, к удивлению Мити, напечатали и прислали оттиски. Только потом он понял, что Аня сделала это в тот момент, когда Митя был близок к отчаянью. Оттиски обрадовали его, как ребенка. Он перечитывал статью сто раз, несколько оттисков подарил друзьям и уже хотел было послать новую статью, но Аня сказала:
— Митя, это же несерьезно. Ты собираешься коллекционировать бумажки?
Митя очень обиделся, но Аня была права. Он спрятал оставшиеся оттиски в ту же папку и больше не вынимал.
Сейчас Митя был на взлете. Он надеялся и предвкушал победу.
— Ну скажи, скажи: «Ты гений!» — смеясь, попросил он жену.
— Хвастун и недоучка, — буркнула Аня. Митя счастливо захохотал, захлопнул тетрадь и вдруг, поймав Аню за руку, ловко повернулся и взвалил ее на спину. Аня визжала и свободной рукой молотила Митю по затылку. В таком виде они ввалились в горницу, где за столом сидели дети. Митя опустил жену на пол и сказал:
— Берите это сокровище, а взамен дайте мне пожрать.
Дети были счастливы. Поведение Мити означало, что кризис прошел, прошлое поражение забыто и новая работа вернула в семью радость и веселье.
Они ели картошку «в мундире». Подбрасывая ее, точно мячик, и обжигаясь, Митя отдирал от картофелины тончайшую серую кожуру, которая тут же свертывалась в легкую трубочку. Он разламывал картофелину, посыпал крупной солью и ел, восторгаясь.
Митя восторгался немного преувеличенно. Он все еще как бы извинялся за что-то, налаживая отношения со своей названой родиной. Митя словно говорил деревне, лесу, полю: «Смотрите! Я свой, свойский, ваш. Я ничем не отличаюсь от Анатолия Ивановича и даже от Витьки. — И тут же осторожно добавлял: — Нет, конечно, отличаюсь. Но только тем, что могу осмыслить свое место в мире и всю систему взаимоотношений: с деревней, с лесом, с печкой, с картошкой “в мундире”. Это результат образования, и только. По крови я ваш…»
Ни у жены его Ани, ни тем более у детей таких мыслей не было и в помине. Они ели картошку, запивая ее молоком. Да и Митя так не думал, совсем нет! Но что-то такое было, какая-то едва заметная нарочитость в том, как он ломал картофелину, дул на нее, сыпал соли чуть больше, чем нужно, и запивал молоком из кринки. И это неопровержимо доказывало: Митя еще не был здесь своим, как ни старался. Он чувствовал это с досадой и готов был проклясть свой ум, столь беспощадно исследующий себя.
В избу вошел Анатолий Иванович. Он стянул с себя ватник и озабоченно заглянул в печку. Дрова уже догорели. Хозяин сделал попытку закрыть трубу, но Аня взмолилась:
— Ой, не надо! Толя, ради бога! Мы потом сами…
— Протопилась… Можно прикрыть-то. Замерзнете ночью, — сказал Анатолий Иванович.
— Лучше замерзнем, чем угорим… Садись с нами ужинать.
— Да я уж кормленый. Меня хозяйки в очередь кормят, — сказал Анатолий Иванович и ушел с подойником во двор.
За окнами послышался шум приближающегося трактора. Свет фар прорвался сквозь занавеску, пробежал по стене и остановился на белом боку печи. Мотор продолжал греметь. Митя отодвинул занавеску и увидел, что перед крыльцом, упираясь в избу светом единственной фары, стоит желтый, забрызганный грязью трактор. Он трясся и грохотал. Людей в кабине не было.
Тут в сенях послышался топот, и в избу вошли, а вернее тяжело вторглись, двое в замасленных черных ватниках и в кепках.
— Где хозяин? — спросил один, обводя избу мутными глазами.
— Доит, — коротко отвечал Митя.
Тот кивнул и уселся на табуретку рядом с печкой. Его товарищ, огромный, под притолоку, мужик, что-то прохрипел и сел прямо на пол, раскинув ноги в резиновых сапогах с отворотами. Глаза его были полуприкрыты.
Усевшись, он полез в карман брюк, откуда с большим трудом извлек мятую пачку папирос. Также не без труда он вытянул из пачки папиросу и закурил. При этом он непрерывно что-то бормотал, разговаривал сам с собой.