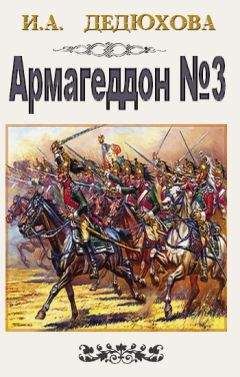Одутловатое лицо Кольки поражало в свете факелов неестественной бледностью. Без того мелкие черты его лица будто еще более разгладились, тонкой скорлупой растянулись так, что небольшой нос превратился в едва заметный бугорок с вывернутыми дырочками ноздрей. Колька тяжело, с присвистом дышал, кутаясь в накинутое сверху балахона одеяло. Наказанные женщины все пытались поймать его взгляд, с жалкими улыбками стараясь обратить на себя внимание Живого Бога.
Но глаза у Кольки и раньше-то были узкими. Теперь бородавка на его переносице покраснела и неестественно набухла. Она будто привстала теперь над всей его бывшей личностью, а кожица над нею стала тонкой, восковой. Казалось, будто под этой глянцевой багровой кожицей что-то шевелится. И с затаенным восторгом братья и сестры ждали, что же будет, когда она однажды прорвется…
Сквозь слезы, которыми обливались у столба привязанные женщины, лицо Кольки казалось — огромным белым яйцом с багровой шишкой посредине. Этот Колька вряд ли мог им чем-нибудь помочь. С его появлением в чуме что-то неуловимо изменилось. Будто у всех, кто сидел и стоял рядом, исчезли знакомые прежде имена. Будто эти люди никогда не жили когда-то рядом, не были бухгалтерами, ракетчиками, шахтерами, учителями музыки… Будто и у самих рыдавших отступниц не было никакой жизни прежде, а чтобы жить другой, надо было знать какую-то тайну, которую никто так и не открыл. Женщины почувствовали, как холод, терзавший их целый день через влажные свитера, сонным туманом просачивается в душу.
Из-за бородавки Николай мог видеть теперь только прямо перед собой, неловко поворачиваясь всем корпусом. Слишком маленькими для его теперешнего тела цепкими пальцами с давно нестрижеными, грязными ногтями он с видимым усилием удерживал на груди огромное ворсистое одеяло. От его взгляда сердца начинали неистово биться в такт барабанам и бубнам, в которые застучали все братья и сестры, затянув нудную песню, как только он вошел в чум. Привязанные к столбу женщины почувствовали, как от такой песни у них помутилось в голове, стены чума начали раскачиваться, то удаляясь, от приближаясь вплотную, а лица камлавших вдруг начали расплываться в сплошное серое пятно. Последним усилием воли женщины пытались удержаться от цепкого безразличия, накатывавшего на них от односложного мотива и лихорадочного ритма песнопений.
Свозь белесый туман, заславший глаза, они различили, что тот, кто еще утром был Вадиком Жаровым, выступил из общего круга вперед и знакомым птичьим голоском обратился к братьям и сестрам, сказав, что будто бы земля давно от них ждала жертвы, что без этой жертвы Хозяина им не пробудить. Барабаны и бубны застучали быстрее, в их сухую дробь исподволь примешались какие-то странные звуки, будто внутри, прямо под их ногами начинает медленно колотиться чье-то страшное, исполинское сердце… Обессиленные женщины с ужасом глядели на Кольку, с невнятным мычанием топавшего в исступлении ногами, все плотнее сжимавшего на себе одеяло. Он будто старался достучаться до какого-то Хозяина, с каждым шагом продвигаясь все ближе и ближе к отступницам, безвольно повисшим на веревках. Глядя, как переваливается, вздрагивая от топота, что-то скрытое под одеялом, женщины разом завизжали, пытаясь хотя бы криком из последних сил упросить всех братьев и сестер, все быстрее бивших в бубны и барабаны, чтобы это что-то к ним ни за что не подошло.
За пару шатких тяжелых шагов до женщин, бившихся в истерике с закатившимися белками глаз, ставшие давно не по размеру ручки Кольки будто против силы раздвинулись, голова откинулась назад и с жадным вздохом к женщинам потянулось щупальцами то, что пытался Колька скрыть одеялом. Оставшаяся от прежнего Кольки голова будто пыталась что-то сказать беспомощно разинутым ртом, забитым сизой слизью. Но щупальца, которыми было обвито все его тело под одеялом, тащили его вплотную к оравшим в ужасе жертвам…
Как им и приказали, камлавшие люди опустили лица и закрыли глаза, чтобы глубже уйти в литургический транс. Внезапно коленей одной из женщин быстро коснулось что-то. Приоткрыв зажмуренные глаза, она столкнулась с пустым мертвым взглядом оторванной от тела головы Валентины Липкиной. Удивительно, но глаза Валентины остались целы, хотя нижней части лица практически не было. В накатывающей дурноте женщина закрыла глаза, продолжая бить в бубен. Но и с закрытыми глазами сквозь слишком тонкие веки она видела, как на голову Валентины оттащила в сторону чья-то страшная лапа. Женщина пыталась вернуть себе прежнее чувство восторга и смирения перед грядущим явлением Хозяина, гордость причастности к Тайнам Мироздания… Но за темнотой плотно сомкнутых век перед ней маячило то, что осталось от лица Вальки-скандалистки.
Позади, перекрикивая хор камлавших, Вадик Жаров выкрикнул, что так будет с каждым сомневающимся и что можно теперь открывать глаза.
Кольки в чуме уже не было, к выходу наружу от столба тянулся кровавый след. Никаких отступниц тоже не было, только на веревках остались кровавые отметки балахонов и неизменных свитеров. Впрочем, яркими отметинами крови были испачканы балахоны почти у всех камлавших.
Вадик Жаров сказал, что всем сейчас надо возрадоваться, потому что жертва их принята. Очевидно, многие смогли подсмотреть, как именно принималась жертва, поэтому стояли, со страхом рассматривая основание столба, пропитанное черной кровью.
Не видя явной радости среди братьев и сестер, камлавших о чуде избавления от ереси, Вадик прошелся перед людьми, пристально вглядываясь им в лица. Потом он встал у столба и, еще раз окинув тех, кто пытался отвернуть от него лицо, тяжелым взглядом, сказал, что останки корыстолюбивых дьяволиц, пожелавших осквернить их помыслы, надо тщательно втоптать в землю. Будто и не было их никогда. А потом всем братьям и сестрам надо любовно поздравить друг друга и радоваться победе над искушением.
К каждой сестре тут же с готовностью кинулся брат с любовным поздравлением. Люди катались по черной земле, залитой кровью… Вадик Жаров, взглянув на Сергея Кропоткина, прилипшего к какой-то сестре с поздравлением, с безразличием пожав плечами, вышел из чума.
…Даже после любовного братского поздравления страх почему-то все равно остался где-то далеко в глубине. Только говорить об этом было нельзя. Ведь ее давно уже не должно было быть. Око обещал, что всех избавит от нее, потому что толку в ней никогда не было никакого. Она умела только болеть. Душа… Болела и мешала жить легко и радостно. В преддверии новых, радостных перемен в самых темных закоулках сознания вставал дикий, ни с чем не сообразующийся вопрос: «А в ком еще жива душа?»