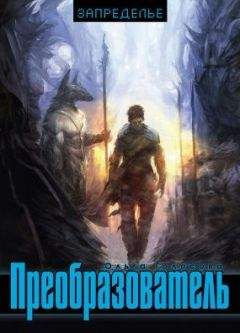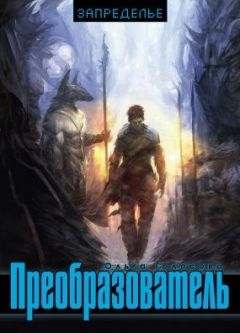Когда я, побритый и наодеколоненный, вышел из ванной, Эдик уже сообразил яичницу с помидорками, тосты и кофе.
Он пил из моей чашки и курил, деликатно откусывая от хлеба с маслом.
Я плюхнулся на стул и налил себе эспрессо.
– Не знаю, Эдик, где там тебя тренировали, но ты даешь. Хоть бы покраснел, что ли.
Эдик бросил на меня укоризненный взгляд и методично дожевал кусок.
– Знаешь, Серый, что я делаю для того, чтобы сохранить в себе хоть видимость разума? Я ем на кухне, сплю в спальне и работаю в кабинете. Но неужели ты думаешь, что, спи я в кабинете, а обедай в спальне, мир бы рухнул? Я бы рухнул, а мир остался. Покраснею я или побледнею, поверь, это ничего не изменит.
Дело в том, что человек от зверя отличается наличием культуры, а не эмоциями. Эмоции же со зверем роднят, они, как научно доказано, свыше нам даны и замена счастию они. Культура – это форма договора, иначе люди в отвращении разбежались бы друг от друга. Зверь не столь щепетилен – и ему все равно, ест его соплеменник вилкой или руками.
– Это ты на меня намекаешь?
– Да ни на кого я не намекаю. Всем тошно, а дело делать надо.
– А кому оно надо, дело это?
– Всем надо.
– Может, тебе просто денег мало? А? Эдик? Сколько тебе надо для счастья? Миллион? Миллиард?
– Мне надо, чтобы мир не рухнул. Чтобы порядок был и покой. А денег должно хватать. Чтобы не думать, на что купить брюки и как тещу на море с ребенком вывезти подешевле. Бедность унизительна.
– А богатство не унизительно? Ведь столько говна съесть придется, что потом, что ни ешь, вкус говна не выветривается. Может, оттого и есть больше приходится?
– Ты богат, тебе виднее, – насмешливо посмотрев на меня, Эдик подлил кофе в обе чашки.
– Раз мне виднее то как эксперт, скажу тебе: вкус говна неистребим, – при этих словах я ощутил пресловутый вкус и поспешил закурить.
Повисла неловкая пауза. Эдик как специалист по сошиалайзингу 96 и межличностным коммуникациям крутанулся на табуретке и включил телевизор.
Шла предвыборная кампания, и знакомый олигарх предлагал себя людям.
– На его месте мог быть ты, если бы не твоя дурость.
– На его месте, боюсь, мог быть каждый – товар-то бросовый. Я на мгновение представил себя в роли кандидата. Личная минута славы, а дальше, как говорила одна умная еврейка, деньги проедены, а позор остался.
Уловив мое настроение, Эдик переключился на музыкальный канал.
– Эд, тебе не кажется, что мы стали похожи на супругов, у каждого из которых давно есть личная жизнь, но общее прошлое держит крепко?
– Пожалуй, – Эдик повернулся, и я снова им полюбовался. Хорош, паразит, хорош, как статуэтка или картина.
Словно читая мои мысли, Эдик согласно хлопнул ресницами.
– Знаешь, Серый, ты бы все-таки взял себя в руки. Сегодня действительно тот день, который может здорово изменить твою судьбу. Постарайся без фокусов, ладно?
– А что иначе?
– Ну почему ты все время ерничаешь? Ерничаешь и торгуешься, ерничаешь и торгуешься! Иначе – грохнут тебя и все! Ты что, тупой? Ты не понимаешь, что ни у отчима, ни у крысоловов уже нет выбора? Или ты пай-мальчик, который управляет, или управлять будет кто-то другой!
– Ладно, я понял.
– Тогда, – Эдик бросил взгляд на поблескивающий бриллиантами циферблат, – нам пора.
Глава 32
Кловин. Последняя
Летнее полнолуние самое страшное. Тоска сосет и сосет из сердца волю к жизни, все, о чем мечталось и забылось, возвращается, а мокрые от пота простыни липнут к телу. Такие ночи можно пережить вдвоем, но даже между влюбленными лунный свет возводит невидимую преграду, проникая в тайники души, куда нельзя заглядывать безнаказанно.
Билэт спал, отвернувшись к стене. Кловин лежала на спине и смотрела в распахнутое окно. Она перевела взгляд на мужчину, разделившего с ней постель. Спина спящего мерно подымалась и опадала в такт дыханию. В лунном сиянии серебрились едва заметные шрамы, покрывающие тело, поджарое, как у молодого волка. Билэт казался игрой лунного света, сладкой мечтой, вернувшись от которой, ощущаешь ядовитую горечь пустоты и одиночества, и она из последних сил цеплялась за эту мечту и твердила себе, что ради любви можно вынести все. Чья-то тень закрыла луну, крикнула ночная птица. Женщина вгляделась в ночное небо, а черная тень скользнула к земле в поисках добычи.
– Не спишь?
Кловин вздрогнула.
Ленивая рука легла ей на грудь, звякнули браслеты. Он устроился поудобнее и, обняв ее, снова заснул. Капризное дитя, что играет жизнями и судьбами тех, кого он, надменно скривив рот, называет жалкими человечками. Но печальный крик большой птицы, промелькнувшей за окном, вытянул из ее памяти слова рыцаря в черных латах.
Утром ее разбудил солнечный свет, бьющий прямо в глаза. Рядом с ней никого не было, значит, Билэт ушел, пока она еще спала. Кловин позвала служанку и велела подать завтрак в постель.
– Скажи, ты видела, как ушел господин?
– Видела, госпожа. Он приказал седлать Серого и уехал с дружиной.
– А когда будет, не сказал?
– Нет.
– И ничего не просил передать?
– Нет, госпожа.
– Ну, хорошо, иди.
Кловин поднялась с постели и подошла к окну. Утреннее солнце заливало пустой двор. Несколько кур, сбежавших из птичника, выискивали зерна в навозе, застрявшем в мостовой.
Уехал и ничего не сказал… Когда вернется – неизвестно. От света заныли виски, и, обхватив голову руками, она прислонилась к холодной стене.
За завтраком она слишком тщательно пережевывала паштет и пила вино из слишком глубокого кубка. Ну и пусть. Одевшись, она снова легла в постель, задумчиво разглядывая высокие своды опочивальни, как две капли воды схожей с ее комнатой в замке мастера Рэндальфа.
День не спеша отползал от нагретых стен, оставляя за собой пятна зелени и распустившихся желтых цветов. Кловин радовалась, что скоро стемнеет. Воздух быстро остывал, и она приказала принести жаровню с углем. К ужину она пересела в кресло и, не глядя в раскрытую книгу, уставилась на тлеющий огонь. Отужинала в зале и снова поднялась к себе. Тяжелые думы источили ее душу час за часом, день за днем. С головой укрывшись одеялом, она свернулась клубком и думала, думала. О ребенке, которого может никогда не увидеть, о крысоловах, об убитой сестре, о кривом кинжале мастера за поясом Билэта и о народе, приютившем ее. О том человеке, кому отдала себя. «Насколько человек может позволить себе увидеть зло, чтобы не утратить желания жить?» – на этот вопрос из книжки по схоластике она не могла ответить. Возможно, потому, что не была человеком.