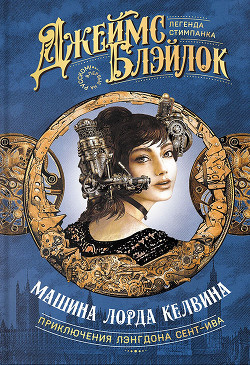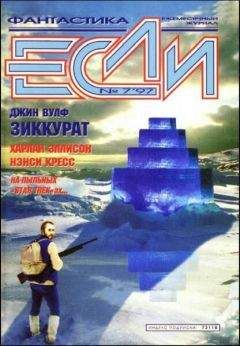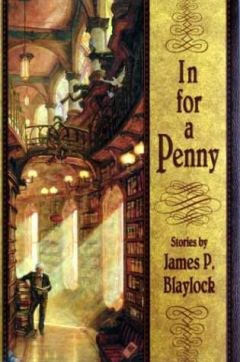Тем не менее, представитель Академии наук, ученый секретарь мистер Парсонс начисто отверг такую возможность — и сделал это поразительно быстро, чтобы опровержение попало в вечерний номер «Стандарта». «Никакой связи между этими событиями нет и быть не может», — твердо заявил он. К тому же он «глубоко сомневается во всей этой чепухе, касающейся летающих дверных молотков. Наука не занимается летающими дверными молотками и не желает иметь с ними дела».
Помню, я еще подумал тогда: «Расскажи об этом бедняге, которого свалило с ног железной тумбой». Но, если откровенно, связь между двумя событиями установили Сент-Ив с мистером Годеллом. Совсем забыл упомянуть: тем вечером сей достойный джентльмен тоже ужинал в устричном баре. Он, да еще Хасбро — помощник и преданный слуга Сент-Ива.
Засим чутье заставляет меня умолкнуть, вовремя отложив перо: писательскому искусству, видите ли, не по нраву, когда интрига раскрывается прежде надобности, — пусть лучше остается темной и недосказанной, а читатель сделает паузу и переведет дыхание. «Всему свой черед» — вот незыблемое правило любого добротного сюжета.
Пока в Дуврском проливе [11] не затонуло первое судно, уверенности — я имею в виду абсолютной уверенности — не было; в своей правоте не сомневались разве что Годелл, воспользовавшийся методом дедукции, и Сент-Ив, который предпочел научный подход. Я же блуждал в тумане противоречий.
Когда в табачную лавку Годелла вошел человек со свертком, я, помнится, сидел на одном из диванов, ждал появления Сент-Ива и раздумывал, не начать ли мне курить трубку, — хотя у меня и без того предостаточно дурных привычек, одна из которых лень. Годелл повел себя так, будто нас посетила сама королева, и представил мне вошедшего как Исаака Лакедема [12]. Собственно говоря, в этом хрупком старичке не было ровным счетом ничего примечательного, не считая странного имени. Простой коробейник, торговец всякой мелочью, и этим все сказано: я почти сразу забыл о нем, поскольку дела этих двоих не имели ко мне никакого отношения, да и к этой истории тоже, разве что самое далекое и опосредованное.
Мой отчим, Уильям Кибл, в свое время обучил меня своему ремеслу — изготовлению игрушек, вот я и сидел на диване, доводя до ума сделанную из индийского каучука фигурку слона с огромными ушами, сборку которой завершил в то самое утро. При нажатии на брюхо игрушка принималась крутить хоботом и хлопать ушами, а из ее нутра доносился усиленный звук вращавшихся шестеренок, который, при участии толики воображения, вполне мог сойти за рев. В общем, трубящий каучуковый слон с простейшим механизмом; смотрелся он презабавно.
Помнится, я спрашивал себя, какого слона смастерил бы сам Уильям Кибл, раздумывал, не снабдить ли мне игрушку шляпой с маленькой птичкой внутри, и праздно прислушивался к беседе Годелла со старичком, — а толковали они о нумизматике и о механических зажигалках, которыми торговал коробейник. Затем старичок вышел, весьма довольный, и бодро зашагал в сторону Брауэр-стрит, благополучно забыв в лавке свой пакет с «чудо-спичками».
Прошла целая минута, прежде чем Годелл обнаружил забытый сверток. «Проклятье!» — вскричал он (или издал иной возглас в этом смысле), а я вскочил и со свертком под мышкой и слоном в другой руке выбежал на улицу. Я несся, уворачиваясь от встречных людей, пока не добежал до угла, где и обнаружил старика: тот стоял в кондитерской и пытался продать владельцу марлевые пакетики с зеленым чаем. Опускаешь такой пакетик в чашку с кипятком, а когда чай настоится, вынимаешь, — но не для того, чтобы использовать повторно, упаси боже, а чтобы разбухшие листья не замутили настой осадком. Владельца кондитерской нисколько не заинтересовало изобретение — он зарабатывал немного сверху, читая клиентам судьбу по рисунку чаинок в чашке (а также по ладоням и крошкам ячменного печенья); я же счел чайные пакетики отличной придумкой, о чем и доложил старику, возвращая ему «чудо-спички». В ответ тот похвалил моего слона — как мне показалось, совершенно искренне. Мы поболтали еще минут десять за чашкой чая, и я побрел обратно, не без оснований полагая, что Сент-Ив, должно быть, уже пришел.
На улице, примерно в полуквартале от табачной лавки, стоял небольшой двухколесный экипаж — видавший виды потертый кэб, окно которого было затянуто куском потертого бархата. Когда я проходил мимо, импровизированная занавеска отдернулась в сторону, и в окне показалось чье-то лицо. Я сперва подумал было, что это женщина, но нет: это оказался мужчина с длинными, до плеч, вьющимися волосами. Он выглядел странно — сальные локоны, лоснящаяся кожа, чисто женский высокий воротничок из цветастого ситца — и даже пугающе. Скорее всего, такое впечатление складывалось из-за его взгляда — взгляда безумца: горящие какой-то сумасшедшей страстью глаза его постоянно блуждали, словно он не в силах на чем-либо сосредоточиться, словно всё, что есть вокруг, — кэб, дома на Руперт-стрит, я и другие прохожие — невероятно важно для него. И опасно. Он стрелял глазами туда-сюда с какой-то пьяной настороженностью и внезапно тихо произнес — почти прошептал, — ни к кому конкретно не обращаясь:
— Что это?
Поскольку смотрел он в это время куда-то на улицу, я тоже посмотрел туда, но не увидел ничего примечательного.
— Прошу прощения? — откликнулся я.
— Вот это. Там.
Он опять уставился на что-то, и я вместе с ним.
— Там.
Теперь его взгляд был устремлен вверх, к ряду стрельчатых окон на третьем этаже дома. В одном из них виднелся силуэт какого-то человека, курившего сигару.
— Он? — спросил я.
Безумец вытаращил глаза, и я подумал: «Ага, уж теперь-то я точно вычислю, куда он смотрит», но снова ошибся.
— Это. В твоей руке.
— Слон?
Он быстро замигал, будто ему в глаз попала соринка, выдавил, скосив глаза:
— Он мне нравится.
Казалось, он хорошо знает меня. И он мне тоже кого-то напоминал. Но я никак не мог сообразить, кого, и, похоже, именно безумие, — а мой собеседник, несомненно, утратил способность мыслить здраво, — придавало его лицу мешающую опознанию чужеродность: казалось, он родился на какой-то неведомой планете и, явившись оттуда на Землю, попытался замаскироваться, собрав воедино наиболее типичные черты человеческого лица, но вышло странно: передо мной маячила какая-то театральная маска.
Мне, правду говоря, стало его жаль, и когда он протянул руку за слоном, я отдал ему игрушку. Мне думалось: он повертит ее в руках и быстро вернет. Но безумец тут же скрылся в глубине кэба. Занавеска задернулась, и изнутри не доносилось больше ни звука. Я постучал в дверцу.
— Уходи, — сказал он.
И я ушел. Этот тип нуждался в слоне больше, чем я сам. Для кого, спрашивается, я мастерю свои игрушки, если не для таких, как он? Кроме того, слону определенно недоставало шляпы. Эта мысль утешила меня, но бегство все равно казалось почти малодушием. Хотя останься я — и что бы изменилось? Мне вовсе не хотелось устраивать нелепых сцен на потеху зевакам: вообразим, что я лезу в кэб и силой отнимаю у незнакомого безумца каучукового слона! Но останься я — что бы изменилось? Я не хотел устраивать сцену, залезая в кэб и силой отнимая у безумца каучукового слона. Именно это я и твердил себе, когда вошел в лавку Годелла, готовый поставить этот случай себе в заслугу, и там, уже переступив порог, я вдруг почувствовал, что сам близок к помешательству.
Должно быть, у меня действительно был слишком безумный или ошарашенный вид, поскольку Хасбро при моем появлении в тревоге вскочил, а незнакомая женщина, стоявшая в дверях, повернулась на каблуках и бросила на меня изумленный взгляд. Нет, это был не парень из кэба, а именно женщина, но с таким же, как у того, выражением лица, такими же сальными волосами и блузкой из того же материала. Она куталась в шаль и была намного старше, хотя по лицу этого не скажешь. Почти полное отсутствие морщин на лице, вероятно, объяснялось его легкой одутловатостью: такое впечатление, будто в Сохо заявился какой-то гоблин с искусно выточенной дыней на плечах вместо головы. Сомнения отпали — передо мной стояла мать того существа из кэба.