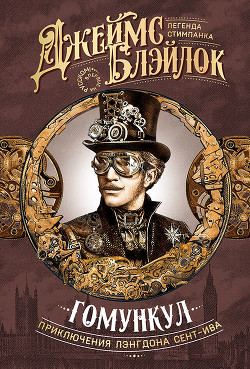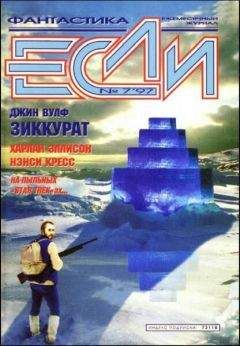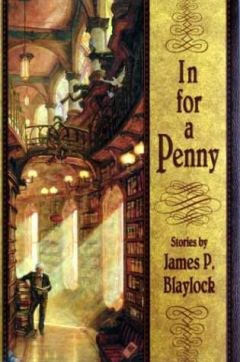Читая на ходу, Пьюл не отвлекался на то, чтобы осмотреться кругом, — и совершенно напрасно. Когда он все-таки добрался до залитой солнцем Чаринг Кросс-роуд, повязки его окончательно взбунтовались и отчасти открыли лицо. Погруженный в чтение Пьюл пренебрег безопасностью безлюдных переулков и аллей; между тем едва ли не половину заполнивших улицы прохожих интересовали те же новости, что и его самого.
Газеты шли нарасхват. Увлеченные пугающими известиями люди заглядывали друг другу через плечо. Скопление мужчин и женщин, стихийно собравшихся прямо посреди улицы, было настолько поглощено чтением, что это едва не стало причиной дорожного происшествия с участием двуколки, кучер которой и сам сражался с хлопавшей на ветру газетной полосой.
Познакомившихся с последними сенсациями лондонцев роднило своеобразное выражение, застывшее на их перекошенных от ужаса лицах: новости о пришельцах и ходячих мертвецах, очевидно, никому из них не сулили добра. И случайно оказавшийся в этом средоточии страха и подозрительности всхлипывающий Пьюл, с зеленой физиономии которого сползали зловонные ленты пропитанных химикатами бинтов, предсказуемо вызвал переполох.
Какая-то женщина с визгом наставила на него указующий перст, и к ней не замедлили присоединиться другие прохожие. Люди оборачивались и замирали, в изумлении провожая Пьюла испуганным взглядом, а он даже не замечал этих признаков нарастающей паники. Лишь оторвав глаза от газеты, алхимик сообразил, что его принимают за нечто кошмарное. Правда, ни сам Пьюл, ни перепуганные обыватели, с воплями тыкавшие в него пальцами, не имели понятия, кем или чем он им представляется. Может, это и есть пришелец? Ходячий мертвец? Сразу и то и другое? Кто бы разобрался… Но обычным человеком это нечто однозначно не являлось.
— Оно убегает! — взвыл мужчина в жилете, который был ему мал на несколько размеров. Этот вопль моментально подхватила вся улица, и бегство Пьюла обратилось веским доводом в пользу мнения, что он действительно тот, за кого его принимают.
Пьюл с трудом удержал равновесие, избавляясь на бегу от газеты и повязок. Будь у него возможность швырнуть в этих людей бомбу, заставить умолкнуть одних и дать остальным реальный повод для испуганных воплей, он бы так и сделал. Но они накинулись бы на Пьюла прежде, чем метательный снаряд показался бы из коробки, и впридачу лишили бы его удовольствия продемонстрировать свое приобретение Нарбондо.
Мало-помалу он оторвался от возбужденной толпы: всерьез устраивать погоню никому не захотелось. Видно, зеваки не собирались принимать активного участия в странных событиях этого дня.
Теперь Пьюл до конца разобрался в своих намерениях. Задача не так сложна: из кладовой на лестничной площадке у входа — в тайный коридор, добраться до лаборатории, отодвинуть панель, поджечь фитиль и без лишних слов катнуть бомбу внутрь. Лишь бы Нарбондо оказался на месте! Стоило погибнуть, чтобы задержаться и перед самым взрывом шепнуть кое-что горбуну, увидеть, как по его лицу пробегут волны паники и осознания собственной беспомощности, а потом наблюдать за тем, как он ковыляет за машинкой, рыдая и умоляя о пощаде, лишь для того, чтобы разлететься на множество грязных ошметков…
Эта мысль вернула Пьюлу довольную ухмылку. Оно того почти стоило, не будь Нарбондо лишь первым в списке из доброго десятка имен. Все они получат свое, Пьюл ни за что не лишит их заслуженной кары. И потом, не стоило забывать о небольшом дельце с Дороти Кибл. Никому не отобрать у Пьюла радости от возобновления знакомства со строптивой девчонкой, ничего у них не выйдет!.. Пьюл крался вдоль Пратлоу-стрит, прижимаясь к обшарпанным фасадам, чтобы зоркий Нарбондо не углядел его из окна. Проскользнул в парадную дверь, нырнул в кладовую у лестницы и ударил кулаком в угол стенной панели, за которым пряталась отмыкавшая замочную щеколду пружина.
Едва ли аллеям Риджентс-парка когда-либо прежде доводилось видеть подобные толпы. Плотные людские потоки струились по обеим сторонам Парквей и вдоль Сэвен-Систерс-роуд. По стремнине образованной человеческими телами реки двигались бесконечные двуколки, кабриолеты, экипажи и небольшие коляски с открытым верхом; все они, под неумолчный стук копыт, опасно раскачивались, одолевая выбоины и проваливаясь в колеи, а их кучера на чем свет стоит честили ротозеев, норовивших перебраться на проезжую часть, что приводило к заторам и замедляло скорость неритмичного движения почти до нуля.
Битком набитые повозки срывались с места, затем намертво застревали минут на пять, многократно повторяя этот цикл, при этом чудом избегая столкновения с десятками пешеходов, которые отважно выпрыгивали на дорогу, чтобы не увязнуть в слякоти на обочинах, и будто бы не слышали возниц, призывавших посторониться и пропустить лошадей.
«Если в путь не отправилось пол-Лондона, — думал Теофил Годелл, протягивая брошюру тощему человеку в пенсне, — тогда я слепой». И в придачу еще и мертвый, ибо Годелл, нарядившийся в спешно подобранный костюм, приобретенный за шиллинг в Хаундсдитче [42], старался походить именно на оживший труп.
Над достоверностью образа пришлось потрудиться совсем немного: некогда весьма приличный костюм был достаточно грязен, чтобы как раз сойти за наряд последнего упокоения. Парочка новых дырок, энергично исполненный танец на разложенном посреди улицы одеянии, несколько мазков грязи — и нужный эффект был достигнут. На лицо потребовалось нанести капельку грима: любовно нарисованный фальшивый шрам по центру лба, сбегающий под правый глаз, позволял предположить, что его обладатель прежде вел жизнь праздную, бесцельную и суматошную, являясь кем-то вроде азартного игрока или иного бездельника и гуляки.
Поначалу Годелл решил, что его соратники-упыри вовсе немы, но, похоже, поспешил с выводами. Те из них, кто выглядели сравнительно свежо и перед воскрешением, возможно, пролежали в своих могилах всего-то денек-другой, еще могли прохрипеть отдельные слоги своими подгнившими связками. Эти последние, однако, растеряли всю гибкость, и достоверно воспроизвести упырье карканье живому, здоровому человеку было крайне трудно. Годелл старался как мог, но по большей части предпочитал вообще не раскрывать рта.
Распаленный воплями о близости конца времен проповедник пламенел обычным лживым задором. Внутри, впрочем, он скрежетал челюстями, оплакивая потерю ящика с гомункулом, — если, конечно, там находился именно он. На борту дирижабля определенно спрятан еще один бесценный ящик.
Кроме того, Шилоху достался и отобранный у Пьюла чудесный прибор — так ведь? — попытка запуска которого получасом ранее сотворила настоящее и весьма уместное чудо. Силы плодородия пронизали его существо, а дух Эдемского сада наполнил жизненной энергией, окрасив даже кожу его в загадочный зеленый цвет. Отныне Шилох представал перед адептами воплощением некоего языческого божества, покровителя растений, являлся ходячей иллюстрацией парадокса воскрешения: морщины старости уступали набуханию почек новой весны, свинец дряхлости с одышкой отходил в небытие, а золото зрелости расправляло крылья. Шилох даже заговорил теперь воистину причудливым голосом, по-птичьи тонким и заливистым и, спору нет, пугающим на первых порах.
Нести людям перемены вселенского масштаба, бесспорно, задача наисложнейшая — это подтвердила бы и история. Ясно же, что силой, перехватившей бразды управления гортанью Шилоха, был дух его покойной матушки, парившей в лондонском эфире кроткой голубкой. Проповедник еще мог представить особый тембр ее голоса, заполняющий пыльные залы его памяти. Когда, вращая ручку устройства, он, что называется, оказался окроплен невиданной зеленой пыльцою, дух матери обнял его и прижал к сердцу; отныне, растворяя уста, он выводил мелодии ее нежного голоска.
Это потрясло и изумило Шилоха, даже заставило усомниться. С другой стороны, все то, что он ежедневно видел вокруг себя, расшатывало веру. Плоть человеческая слаба, так постыдно слаба… и требует частого насыщения. Уйми ее, бросив какую-нибудь безвредную подачку, и тем самым одержи над нею победу, чтобы позволить духу воспрять. «Нечистый пусть пока сквернится» [43], — произнес он одними губами.