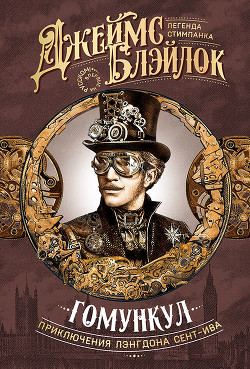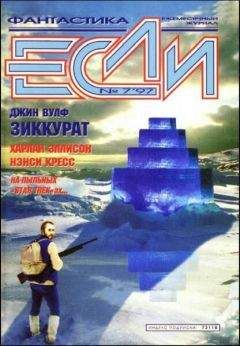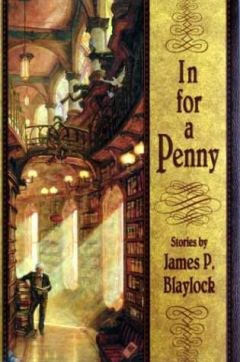Свободно блуждая, мысли проповедника обращались то к содержимому непонятного ящика, то к толпам, двищущимся вокруг него, а то и к юной леди в муслиновом платье — одной из фавориток Шилоха среди живых обращенных. Она чем-то напомнила ему Дороти Кибл, узницу в заведении Дрейка, — он даже глаза полуприкрыл, сокращая обзор и тем самым делая наблюдаемую картину существенно приятнее.
Лицо проповедника глупо расплылось в некоем подобии улыбки. Руки задрожали: та настоятельность, с какою напомнило о себе неутоленное влечение, вселила в старика тревогу. Раздувая грудь, он попытался восстановить дыхание и полез тайком в карман за флаконом лечебного снадобья — джина с настойкой опия; чудесные свойства обоих препаратов, объединившись, оказывали явственное успокоительное действие.
Шилох передернулся и, оглядываясь кругом, стал думать, не стоит ли привести устройство в действие прямо сейчас и попотчевать невольных зрителей первым чудом из запасов щедрого на удивительные события вечера. Прямо перед ним, благодушно улыбаясь, стоял кто-то из оживленных Нарбондо, благослови Господь воскресшее сердце. Почти не тронутый разложением лик позволял предположить, что этот молодчик не относился к бедным немым, проведшим в могиле слишком много времени.
— Покрой твоих одежд намекает на благородство происхождения, — дружелюбно заметил проповедник человеку, которого принимал за живой труп.
Годелл продолжал улыбаться ему пустой улыбкой слабоумия, отмечавшей лица верных Шилоху обращенных — как живых, так и мертвых, — сновавших в толпе. И решился ответить, зная, как мало потеряет даже в случае разоблачения.
— Воистину так, господин, — пробубнил Годелл.
Проповедник уставился на него с оторопью: пардон за каламбур, но этот труп выглядел на редкость живым. Возможно ли такое чудо? Ну конечно! Так или иначе, конец света близится, море вот-вот отдаст своих мертвецов, и каждому дарован будет язык, дабы он, уподобившись адвокату, мог изложить версию собственной жизни перед наисвятейшим из трибуналов. Эта мысль проняла и воодушевила Шилоха.
— Дитя мое! — вскричал он прямо в лицо Теофилу Годеллу. И засопел, постанывая от восторга, захваченный видом Лондона, дружно устремившегося навстречу неведомому. — Стань подле, сын мой! Ты призван свидетельствовать!
С этими словами старик ухватил ящик Кибла — оксигенатор Сент-Ива — и принялся крутить его ручку, высвобождая облако зеленых испарений, вызвавших, как он и надеялся, бурю возгласов в значительно уплотнившейся толпе. Проповедника с его присными и зевак разделяла брошенная грузовая подвода, чей возница явно потерял терпение и потопал к Хампстед-Хиту пешочком.
— Преклони колена, сын мой, — распорядился Шилох. Годелл преклонил. Мессия упер ногу ему в спину и взобрался на подводу, размахивая волшебным ящиком.
Люди смолкли. Давление шедших задних рядов спрессовало публику, и теперь завладеть ее вниманием не составляло труда, а поблизости, хвала небесам, не росли дубы, чьи ветви приютили бы насмешничающих грешников. Покрутив опять ручку ящика, проповедник окунулся лицом в пыльцу плодородия.
— Внемлите! — пропищал он фальцетом, до жути напоминавшим кваканье лягушки-пипы. И отчаянно замахал доверенному приспешнику, который поспешил воздеть над головой стеклянный куб с черепом Джоанны Сауткотт. Могло показаться, что череп шевелит челюстью, пытаясь заговорить, но эффект был ничтожен. Оставалось неясным, сама ли голова вдруг ожила, или это приближенный Шилоха трясет ее вместилище.
Проповедник направил трубку оксигенатора себе в рот, чтобы в полной мере ощутить на себе живительное действие святых газов. И пошатнулся, сраженный их силой, в тот самый миг, когда лошадь, переступив копытами, дернула повозку.
— Настал тот час! — запищал Шилох. — Спеша, мы близимся к вратам. Снаружи псы, колдуны и осквернители, убийцы и идолопоклонники… — где-то посередине «идолопоклонников» действие газа сошло на нет, и пронзительный голос Шилоха с пугающим хрипом обернулся вдруг обычным старческим карканьем. Страстно вращая ручку ящика, проповедник и сам с головы до ног окутался туманом, и обрызгал зеленью всех, кто в молчаливом изумлении стоял поблизости.
— Иди! — взвизгнул он. — Иди же!
Годелл неожиданно осознал, что визг этот предназначается ему — и никому другому.
— Я? — одними губами спросил Годелл, запрокинув голову к старику.
— Да, дитя мое! Поди сюда. Взойди на эту колесницу!
Годелл подчинился. Перед телегой дорога уже очистилась: часть толпы, обойдя помеху, преспокойно двинулась дальше; те же, кто не толкался вынужденно позади, глядели на пророка в ожидании дальнейших чудес. Приспешник Шилоха осторожно установил куб с черепом на телегу, рядом выставил полный костей кожаный саквояж.
Годелл приветливо махнул рукою толпе, упер ботинок в лоб оставшегося не у дел приближенного — и легким толчком отправил того в недолгий полет к мостовой.
— Полегче! — вскричал проповедник, с удивлением поворачиваясь к Годеллу. Не мешкая, табачник сгреб хлопавшие на ветерке складки рясы Шилоха и одним сильным рывком опрокинул старика на подводу. В недоумевающей массе зрителей раздались гневные окрики, но Годелл уже отвернулся, подхватил вожжи и хлестнул ими тревожащихся лошадей.
Подвода рванулась вперед. Горстка обращенных бросилась было следом, надеясь запрыгнуть в нее, но их усилия пропали даром: громыхая подковами по мощеной дороге, лошади быстро оставили их позади. Поверженный мессия катался по днищу повозки и, беспрерывно подвывая, пытался сгрести в кучу и тем самым сберечь свой драгоценный реквизит, а подскакивавший в стеклянном кубе череп Джоанны Сауткотт рассерженно стрекотал и шамкал ему в ухо.
Годелл промчался по Камден-Таун-роуд, свернул в узкий безлюдный переулок сравнительно малонаселенного пригорода, и еще с десяток минут повозка тряслась по ухабам, уносясь все дальше и дальше от пределов Хампстед-Хита. Наконец он натянул вожжи в тени рощицы у обочины и развернулся к силившемуся подняться проповеднику, который затрясся от страха при виде пистолета в его руке. Шилох вгляделся в лицо похитителя, и на его собственном начало проступать узнавание.
— Вы! — ахнул он.
Годелл кивнул.
— Полагаю, мне следует пристрелить тебя, как бешеного пса…
— Напротив, сэр… — с жаром возразил Шилох, не дав ему договорить.
— Тихо! — вспылил Годелл. — Вот что, сэр. Как уже сказано, мне ничего не стоит проделать в твоем лбу дыру: я с той же легкостью спущу курок, с какой мог бы пожать тебе руку, но если первое проделал бы с удовольствием, то о втором даже и думать не желаю. Хоть и не мое это дело — судить другого…
— Не судите! — с волнением выкрикнул проповедник, будто в припадке вздергивая над головою обе руки. — Да не судимы будете! [44]
Годелл холодно сузил глаза:
— Не выводи меня из себя, лиходей, или быстро заработаешь лишнее отверстие в свою дурную башку. Выслушай меня да побереги дыхание: впереди ждет долгая дорога, а все это барахло ты потащишь на себе сам. Думаю, ты можешь считаться сумасшедшим — нет причин думать иначе, — а безумец, хоть и совершающий мерзкие проступки, едва ли полностью в ответе за них. И более того, всю тяжесть твоих преступлений можно измерить, лишь исследовав тот вред, что нанесли неповинным людям твои сомнительные брошюры. Допускаю, все эти люди пали бы жертвами кого-то другого, не окажись рядом ты, а посему разбирать это дело не в моих полномочиях. Эту неприятную задачу я препоручу вышестоящей власти… Но слушай теперь внимательно. У меня немало весьма влиятельных знакомств. Твои бесчинства в доме на Уордор-стрит не прошли незамеченными, да и монета, которую ты так щедро рассеивал от своего имени, звенит, с позволения сказать, глуховато. Короче, сэр: если и впредь ты станешь смущать умы невинных лондонцев гнусными фокусами, мне придется призвать тебя к ответу, несмотря даже на разницу в возрасте.
Проповедник стоял, вытянувшись столбом; лицо побагровело, глаза — узкие щелочки. Будь он чертиком на пружинке, давно б уже вышиб крышку своей табакерки.