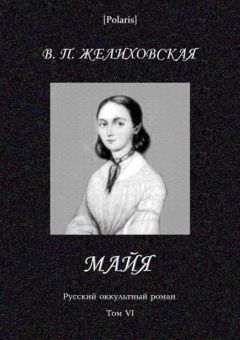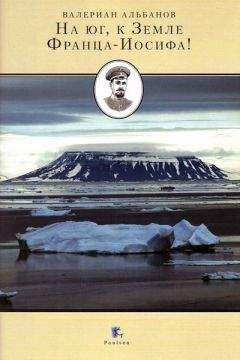Вера Желиховская
МАЙЯ
Фантастическая повесть
Русский оккультный роман. Том VI
Начиная с данного тома, в подсерию «Русский оккультный роман» будут также включены некоторые произведения крупной формы, означенные авторами как «повести». Надеемся, что читатели не будут на нас в обиде за это нарушение чистоты жанровых определений — тем более что заглавие подсерии во многом мыслилось и понималось нами и как «роман с оккультизмом», то есть как отражение определенного культурного явления.
Salamandra P.V.V.
МАЙЯ[1]
Фантастическая повесть
Родители Франца Ринарди были космополиты, но сам он, как это часто бывает, родившись и служа в России, считал себя русским. До сорока лет он жил в Петербурге, где между товарищами-профессорами и немногими знакомыми приобрел репутацию чудака и мистика. Раз летом был он на Иматре, съездил к родственникам в имение да там и влюбился в красивую, болезненную девушку и совершенно неожиданно для самого себя возвратился женатым. Семейной жизнью, однако, профессор пользовался недолго; через год жена его родила дочь, а недель через шесть умерла без всякой определенной болезни. Ринарди чуть с ума не сошел. Он заперся, бросил службу, ударился в спиритизм, только что ввезенный в Россию Юмом[2], иностранный продукт мистицизма; жизнь свою наполнил материалистическими проявлениями духовного мира.
Первые два-три года вдовства Ринарди жил лишь благодаря общениям с умершей женою. Не будь этих общений письменных, а порою и видимых ее явлений, укреплявших в нем убеждение в необходимости жить ради вечного единения душ их в будущей жизни, он с первых же дней наложил бы на себя руки. С течением времени он успокоился. Она успела внушить ему также убеждение в плодотворности занятий научных; вселить в него охоту вновь взяться за свое старое дело, обещавшее привесть его к величайшим результатам, к открытию сокровенной доныне, великой силы природы. Повинуясь ее воле, ее внушению, он предался изучениям и опытам и скоро забыл весь мир в своей лаборатории.
Раз ночью, когда он не спал, а лежал, думая о ней, ожидая ее появления, он услыхал возле себя движение, почувствовал дуновение воздуха на лице своем, — верный признак ее присутствия; но в полусумраке ясной ночи видение не появлялось… В тревоге поднялся Ринарди, сел и всматривался в тоске напрасного ожидания.
Вдруг словно долгий вздох пронесся по длинной анфиладе прадедовских покоев, и из залы, где стоял рояль покойной жены Ринарди, раздался тихий, созвучный аккорд…
Ринарди вскочил, простирая руки туда, к дверям, готовый броситься ей навстречу… В ушах его раздался знакомый шепот:
— Франц! Я здесь, я всегда возле вас, — говорил он. — Но больше ты меня не увидишь… Моя грубая оболочка все дальше от меня уходит!.. Мне все труднее, милый мой, даже для тебя, привлекать и соединять ее распадающиеся начала… Я не могу их долее удержать, а ты меня не можешь долее видеть своим человеческим зрением. Быть может, вскоре перестанешь и слышать, но не горюй! Не горюй, милый мой: между тобою и мною звено… Ты скоро убедишься, что мы неразлучны…
Голос замер, последние слова Ринарди едва уловил. И он почти без памяти упал на кровать.
Утром он встал, как опьянелый. Он сел за письменный стол, но не мог сосредоточить мыслей. К нему привели его трехлетнюю дочь, бледного белокурого ребенка с задумчивыми, широко открытыми, черными глазами, как у ее покойной матери. Девочка уж порядочно лепетала на двух языках, но отец мало ею занимался. В это утро он едва на нее взглянул. Ему тяжело было ее видеть!
Няня увела ребенка в сад.
Дом, где жили они теперь, в родовом имении покойной жены профессора, был старинный, каменный. Ринарди безвыездно поселился в этой деревне.
Время было летнее, окна и широкие стеклянные двери в смежной гостиной были открыты в сад; из цветника веяло резедой и левкоем, доносилось чириканье птиц, порою жужжание пчел, подлетавших к окнам, увитым зеленью; не слышалось только людских голосов, ребячьего смеха и лепета. Няня-швейцарка была погружена в чтение; маленькая русская служанка, приставленная к барышне для забавы, болтала в стороне, у калитки, с горничной. Девочка сидела одна на нижней ступеньке крыльца, смотрела кругом вдумчивым взглядом, иногда улыбалась сама себе, бормотала что-то неслышное и снова задумывалась, будто к чему-то прислушиваясь… Вдруг она встала и побрела к пестрым грядкам.
А Ринарди по-прежнему сидел у своего стола, не зная, что делать и за что приняться. Он сам не знал, сколько времени прошло так. Вдруг он встрепенулся. Милый детский голосок заставил его обернуться к двери. Там стояла его маленькая дочь и, улыбаясь, глядя вверх, как смотрят дети в лица возле них стоящих взрослых людей, говорила:
— Ему?.. Пaпà?.. Хорошо! Я дам.
Она быстро засеменила ножками и, поравнявшись с его креслом, сказала, подавая ему крепко зажатый в ручонке белый нарцисс:
— Бери!.. Мама дала…
Ринарди вскочил.
— Мама дала!.. Мама?!.. Где мама? — шептал он побелевшими губами.
— Вот мама! — просто отвечала девочка и, смеясь, указывала ему на дверь.
Секунду профессор колебался, шатаясь, едва держась на ногах: потом сделал два-три шага к дверям, потом вернулся, весь дрожа, схватил ребенка на руки и, как безумный, прижимая его к груди своей, повторял:
— Мама! Твоя?.. Наша мама!.. Ты ее видишь?
— Маму? Да!.. Вот она… Она всегда с Майей!.. Майя ее любит!
Она устранилась от плеча его и будто прилегла рядом к другой родной груди, соединяя их обоих в одной ласке.
Испуг и недоумение растаяли в блаженную улыбку на лице ее отца; радостные слезы полились из глаз его, устремленных благодарно на нее, — на это видимое и ему звено, соединявшее его с невидимой, с единственной любовью, ненадолго озарившей жизнь его счастием.
С тех пор Ринарди стал почти неразлучен с своей маленькой девочкой. Он занимался в лаборатории, когда она спала; работал целые ночи напролет, чтоб иметь днем время быть с нею. Он уносил свою Майю в сад, в лес, в поле, чтобы не выдать их тайны, чтоб свободно прислушиваться к лепету дочери, к тому, что дочь, в блаженном неведении, передавала ему о ней и от нее…
Но долго так продолжаться не могло. Необычайные способности ребенка не могли оставаться тайной для других, — они слишком искренне, слишком часто и явно проявлялись во всем и со всеми; а общее неведение, слепота и глухота всех к тому, что ее духовному слуху и зрению было открыто, не могли ей, наконец, не открыться… Марья или Майя, как называли ее близкие, с тех пор как первый детский лепет ее окрестил ее этим именем, скоро поняла, что есть в ней что-то особое, что дивит и пугает людей. Она стала их сторониться, скрывать свои мысли, полюбила одиночество и в пять-шесть лет сделалась совсем дикаркой. Даже с отцом она не любила говорить обо всем, что ее занимало. Даже он часто не понимал ее, не всегда мог сдержать удивление, скрыть невольное недоверие к ее рассказам.