— Почему же на вас так тарарабумбия подействовала? — спросил я.
— Внедрилось в те годы в меня, что не стоит ни над чем трудиться на свете!., как ржа разъедала мысль, что прах и тлен все; шар земной и тот когда-нибудь разрушится и уничтожится и будь хоть семи пядей во лбу — все одно никто и никогда не узнает, что ты жил и что делал. Работай, значит, только для того, чтобы было что жевать нынче, а ешь, чтобы завтра опять спину ломать. На коего же беса эта вся канитель нужна? Многие из молодежи тогда пессимистами были, иные даже кончали с собой… Скорбь мировая!.. А тут тарарабумбия! Только что вечную память посулили, и вдруг пожалуйте — танцы с лошадиным участием! Ложь человеческая уж очень обнаружилась — на пять минут этой вечности хватило!
— Можно быть веселым и помнить об утрате!.. — заметил я. — Но скажите, отчего вы так огорчились, что ваше имя не перейдет в века?
— Не о себе я думал, а о человечестве. Смысла жить не стало! Чего я ни перехватал тогда — и Канта, и Спинозу, и Шопенгауэра — он тогда в большой моде был! И когда прочитал — понял, что и самая высота высот — философия — не наука, а гимнастика для праздной болтовни: выжмите пуд томов ее — дай Бог, чтобы хоть с горсточку чего-нибудь дельного набежало!
— Что есть истина?.. — полушутя сказал я.
— Вот, вот!.. — подхватил мой собеседник. — Одна только доподлинно великая книга и есть на свете — евангелие. Выше его уже никакие Канты не досягнут!
— Как же вы от босячества к евангелию перекатились?
— Чудо было, я вам уже сказывал… Революция меня на Хитровом рынке застала; повертелся я там некоторое время и к себе, в свой город, воротился. А за слободкой церковка у нас на отлете стоит над обрывом — может, еще круче он, чем здешний; по отвесу его тропочка петли петляет, к воде сбегает. Поп старый был, маленький, под стать церковке, да глухой — криком ему на ухо кричать надо было, чтобы услышал. Такой же и дьячок, тетерев красноглазый, жил. Обоим за полтораста лет было; службу начнут служить — потеха! Народу мало ходило, больше бабский пол присутствовал. Дьячок поет, а сам церкву метет. Один в алтаре возглашает — «и сподоби нас владыко», а другой сидит на корточках перед печкой, мешает в ней кочергой и козлом «иже херувимы» выводит; иной раз головешка попадется, примется колотить ее, да на всю церкву — «о, чтоб тебя разорвало» добавит.
Вдругорядь дьячок перегонит — отче наш поет, а батя в это время великий выход делает! Да тут же и поссорятся, чисто как дети! И смех и грех глядеть было!
— Как же их не убрали?.. — спросил я.
— А вот так и не трогали! Справедливость-то часто преступлением бывает. Прихожане очень их любили: вдовые оба старика были, бессребреники, рубаху последнюю у них попроси и ту отдали бы! А службу в каком порядке ни служи — она все той же останется: народ не на слова, а на человека смотрит! Жили они вместе в одном домишке — он неподалеку за церковью стоял. И куликнуть любили: по одной выпьют, глядишь, уж оба пьяненькие, сидят рядком, что воробушки, смеются либо из церковного вразброд поют.
Вот они-то и пригрели меня, сторожем взяли; семь лет я с ними и прожил. И что удивительно — они пили, а я у них от пьянства отстал: вошло в голову, что старичков своих я оберегать должон! И никуда бы я от них по сей день не ушел — очень уж свободно и хорошо было!.. Звон один на колокольне чего стоил — без молитвы им с Богом беседуешь! Ну, да судьба наша не от нас зависит; года три тому назад оборвалось это житье: прошел слух, что под самое Рождество Христово к нам комсомольцы сбираются пожаловать: антирелигиозный фронт в нашем городе развоевался! И так эта весть нашего отца Ивана встревожила, что и сказать нельзя: по ночам стал бредить — вскочит со сна и кричит благим теноришком: «Не допущу!., не допущу во храм!.. Изыдите, силы бесовские!» — До того доволновался, что слег, в жар впал, людей узнавать перестал и все рукой будто крест наперстный брал с груди, вперед его выставлял и «да воскреснет Бог» шептал.
А в полдень сочельника как сорвется вдруг с постели — откуда и силы взялись, — глаза дикие, расширенные; хотел что-то сказать да вдруг поник головой и у нас на руках и повис: сразу кончился!
Добежал я до церкви, в колокол ударил по покойнику, люди сошлись, священника из города вызвали, все сделали и отслужили что надобно.
Остались в доме мы вдвоем с дьячком Ермилычем и с покойником… А уж на дворе сумерки пали, слободка огоньками обрызнулась. Слушаю я чтение, а на душе неспокойно — и отца Ивана жалко, и грызет что-то; все гостей непрошенных жду!.. А дьячок как угадал мою думу: поднял от евангелия лицо, очки оловянные отвел на лоб, усмехнулся эдак хитростно да и говорит: «Не допустит он, будь покоен!» и на покойника подмигнул. Так это мне чудно показалось, — думаю, уж в уме не повредился ли старик, не заговариваться ли стал?
Зачитал опять дьячок, а я присел в уголке на стул, гляжу на о. Ивана… озабоченный такой лежит, будто думает что-то. И чувствую, что глаза у меня слипаться начинают — очень уж замытарились мы с дьячком за последние дни! Ну, смекаю, нет — спать при покойнике не полагается!
Разинул я их пошире, а веки сами собой стали смыкаться. Клюнул я носом, очнулся, глянул кругом — за окошком тьма полная; церковь наша уже вся огнями извнутри освещена, народа в ней множество… священник городской всенощную в ней служить должен был!.. И хотел встать, сменить Ермилыча, да так и застыл и душа у меня в пятки ушла: покойник голову приподнял, глянул на дьячка, потом на окно, осторожно спустил на пол парчевой покров, свесил со стола ноги, сгорбился и, крадучись, заспешил к двери. Попытался я вскочить — ни голосу, ни силы нет, двинуть ни рукой, ни ногой не могу — все отнялось! А Ермилыч уткнулся носом в евангелие и о потоплении тивериадских свиней бубнит и ничего не примечает!
Сомлел я, должно быть, с испугу — шибко-шибко закружилась голова и все из глаз поплыло. Слышал только, будто в бубны где-то стали бить, трубы затрубили, голоса многие закричали. Очнулся, гляжу на стол — пуст он, простыня на нем белая сбитая лежит, подушка примятая, а покойника нет! Вдруг дверь приотворяться стала, за нею мертвец чернеет; выставил он в щель голову, огляделся и опять скорехонько, клубочком, к столу… лег на свое место, руки на груди сложил и вытянулся.
В лихорадку меня бросило! Вскочил я, креститься давай. Потом к дьячку метнулся.
— Ермилыч?! — сиплю. — Видел?!..
Он снял очки.
— Ну почитай, почитай! — ответил. — Устал я, признаться!..
Я его за оба плеча ухватил и затряс: голосу дать с перепугу не могу.
— Вставал он сейчас! видел ты это?!..
— Ну, выпил так и хорошо!.. — отвечает. — А я не могу, захмелею! Я свое потом на радостях выпью!
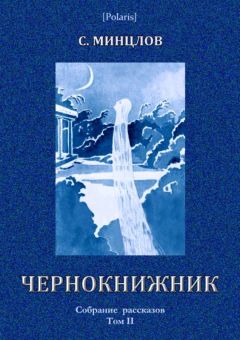


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)

