К дому вела дорожка, выстланная плитами; я поднялся на невысокое крыльцо с двумя пологими каменными лесенками по бокам и, позвонив снова, открыл незапертую дверь.
В небольшой прихожей, у двух стен, стояли коники для лакеев, но, кроме вешалки да знакомого мне пальто и шляпы хозяина, ничего и никого не было.
Почти сейчас же выглянул из соседней комнаты и он; на нем был черный бархатный пиджак и очень короткие коричневые брюки, обнажавшие порыжелые голенища сапог.
— А, а?!.. — воскликнул Мошинский, торопливо идя навстречу; лицо его осветилось улыбкой. — Очень рад, пожалуйте!!..
Мы вошли в гостиную времен Александра I, с мебелью из золотистой карельской березы с очень потертой шелковой малиновой обивкой; стену украшали два больших портрета и несколько миниатюр в бронзовых рамках-ампир.
Всякая вещь соответствовала другой; сразу видно было, что они собирались не по старьевщикам, а хранились в полной неприкосновенности в семье с давних дней. Пыли нигде не было и следа — все находилось в чистоте и строгом порядке.
Из гостиной хозяин ввел меня в просторный кабинет, очень походивший на магазин старьевщика; первым бросилось мне в глаза высокое кресло с прямой спинкой, стоявшее на возвышении, на маленькой кафедре; на сплошной кожаной обивке его были вытеснены какие-то вензеля и рисунки; еще можно было различить следы позолоты и раскраски. Мебель кругом была старинная, но разнокалиберная; у стены грузно темнели шкапы; в приоткрытые дверцы их виднелись корешки книг.
Большой письменный стол — единственная современная вещь — покрывали старинные безделушки, физические приборы и рукописи; ими же были завалены два других черных стола; пыль слоями покрывала все — уборка в этой комнате, видимо, была строжайше запрещена.
Хозяин указал на широкий кожаный диван и предложил сесть, а сам поместился против меня, в низеньком кресле.
— Здесь все средневековое!.. — сказал Мошинский, заметив внимание, с каким я разглядывал вещи. — Я несколько лет провел в Испании и почти все это вывез оттуда… Это стул Торквемады… — добавил он и кивнул на возвышение.
— Вы убеждены в этом? — осторожно спросил я, — теперь везде такая масса подделок…
Мошинский отрицательно качнул головой.
— Знаю! Но я купил его не у антикваров, а в Севилье, из подвалов собора, у сторожей. Торквемада, сидя на нем, присутствовал на пытках и присуждал людей к сожжению на костре… тысячи! — внушительно добавил он и умолк.
Я осмотрел кресло. Древности оно было несомненной. Мошинский указал на вытесненный на нем вензель, затем взял со стола толстую книгу, отыскал в ней какой-то рисунок и подал мне.
— Смотрите?.. — проговорил он.
Я сличил герб и вензель спинки кресла с имевшимся в книге; все оказалось тождественным; подпись под напечатанным рисунком гласила, что это знак и печать знаменитого инквизитора.
— Деньги всесильны!.. — заметил я, убедившись в верности слов хозяина и отдавая ему книгу. — Вещь весьма почтенная!
Около кресла, на стене, висел лист картона с прикрепленными к нему железными, странного вида щипчиками, ножами, крючками и подобиями груш; на полу под ним лежали зажимы, огромная ссохшаяся кожаная воронка, топоры.
— Орудия пытки… — проронил Мошинский. — Этот ножичек на длинной рукоятке служил для вырезывания языков; щипчиками вырывали ногти, грушу впихивали в рот, затем завинчивали в ней винт, она распиралась и разрывала губы; воронку вставляли в горло и вливали воду из ведра, пока человек не раздувался.
— Вот не предполагал я у вас такой коллекции!!.. — воскликнул я.
— У меня нет коллекций… — возразил Мошинский. — У меня есть только нужные для моей работы предметы!
— Не понимаю… следов «Сада пыток» у вас не замечаю?..
Мошинский не ответил и поднял очки на лоб.
— Скажите, вы верите в потустороннее?..
Я ответил утвердительно.
— А верите в то, что сейчас вокруг нас вот здесь, между вами и мной, стоят и движутся невидимые существа, проносятся тысячи звуков, сцены даже из жизни других планет?
— Не знаю… не предполагаю!.. — отозвался я.
— Но кинематограф-то признаете? рисунки, передаваемые на расстоянии, видели? музыку по беспроволочному радио слышали?
— Слышал!..
— Значит, они есть кругом нас! Сейчас, быть может, гремит оркестр, звонят колокола, бегут толпы людей, а мы видим только стены этой комнаты… по-нашему, кругом тишина… А приемник радио слышит и видит! Мы слишком грубые аппараты и слишком поверили в силу разума!.. Но все же иногда мы что то смутно улавливаем — отсюда наша нервность, предчувствие и — самое важное — ясновидение! Вы слыхали о новых Милликановых лучах?
— Кое-что…
— Это могущественнейшие из сил, посылаемых нам небесной бездной! Их сила чудовищна: солнечный луч не может проникнуть сквозь тончайшую металлическую пластинку. Рентгеновский задерживается листом в два миллиметра толщиной, а звездный пронизывает слой металла до восьмидесяти миллиметров! Любая каменная стена, любая броня пробиваются им. В самую глухую тюрьму он может внести что угодно — свет, звук, изображение, может убить и взрастить, даже изменить природу вещей! Да, да, это так!
Вот это открытие и заставило меня обратить особенное внимание на средние века…
— Почему?
— Потому что тогда человек более чутко и непосредственно воспринимал все. Он стоял на верном пути… мы потом потеряли его чутье!
— Это вы про алхимию так говорите?
— Про астрологию. Мы не верим во влияние звезд на людей, в гороскопы, а вот на пороге двадцатого века открылось, что древние были правы, что именно под влиянием звезд слагается наша судьба! Сила лучей, даже самых слабых — солнечных — и их действие на все в мире огромно, а звездных неизмеримо: это тот философский камень, который когда-то искало человечество!
— Область для меня малознакомая!.. — отозвался я. — Но не слишком ли вы преувеличиваете значение этих лучей? Я не отрицаю его, но надо что-то оставить и на долю собственной психологии человека!
— Таковой нет!
— Как нет?!
— Нету!.. это просто пустое место! Вероятно, граммофонные аппараты тоже воображают, что они великие певцы и мыслители!
— А Шекспир, Достоевский, Толстой — это тоже аппараты?
— Разумеется! И что вы, собственно, понимаете под словом «психология» — душевные движения?
— Да!
Мошинский тихо засмеялся и сдвинул очки на переносицу — у него была привычка то подымать их, то опускать во время разговора.
— А вы не замечаете забавной вещи?.. — начал он, — возьмите хотя бы Достоевского, ведь вместо любого действия или мысли, герои его могли бы с таким же успехом и правом поступить или подумать совсем наоборот? Например, Раскольников пошел убивать старуху, а затея его могла кончиться не убийством, а необыкновенной дружбой его с ней и это тоже было бы психологически верно, как убийство! Я лично знаю такой случай: один господин решил застрелить другого, взял револьвер и отправился в засаду. А по дороге услыхал писк: в канаве утопал выброшенный щенок. Он достал щенка, положил его в карман и унес домой, а убийство так никогда и не осуществилось! Есть ли что-либо курьезнее такой псевдонауки? Попробуйте в любой другой области, ну хоть бы в архитектуре, построить что-либо «наоборот»!!
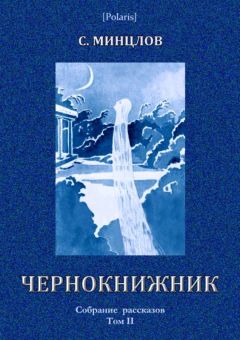


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)

