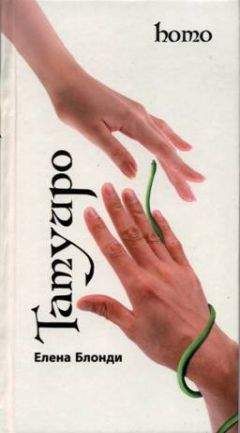И время дёрнулось, побежало, спотыкаясь, все быстрее. Снова выглянуло солнце, протолкнуло бронзовый луч под крышей в углу, укололо закрытый глаз, прощаясь.
Мастер качался медленнее и уже не стучал кулаком в пол, а возил им, выронив нож, цепляя кожей на костяшках острые занозы. Огни в плошках еле светили на кончиках сгоревших фитилей, и солнце ушло. В тусклом свете рана на белой коже казалась чёрным ртом. Он вытянул перед собой руку и разжал кулак. Кровавая кожа медленно разворачивалась плотной тряпицей. Мастер, застонав, нагнулся к очагу и опрокинул туда плошку с жиром и остатками фитиля. Дождавшись, когда огонь затрещит, набирая силу, положил срезанную кожу так, чтоб огонь подъел её края, не затухая. Дышал быстро и легко, старательно не пуская внутрь себя воздух, пахнущий жареным мясом.
И, убедившись, что кожа сгорает, вытащил из глиняного кувшина чистую, намоченную в отваре трав тряпку. Приложил к плечу лежащей, закрывая чёрный рот раны. Далеко, в деревне, снова закричали женщины, заплакали дети. Забил большой барабан, сзывая охотников.
— Всё, уже всё, — голос был хриплым, не слушался, — трава легла на живое, боль уснет. Всё. Не бойся.
Говорить после крика было больно, будто в горло пробрались рыжие муравьи, но он говорил, потому что знал, каково ей там, под циновкой. Знал даже лучше, чем хотел бы. И потому говорил, не переставая, как говорила Берита с девочкой, сестрой Тарути, что наелась злых ягод в лесу и почти умерла, но травница сидела рядом и спасла её, пока мастер ходил на дальние тропы и разыскивал травы для лекарства. Приходил, уходил, а Берита все говорила и говорила, облизывая губы шершавым языком, пока девочка глядела в крышу напряженными глазами. Два дня. Потом заснули, обе.
Теперь говорил он, потому что ничего больше не мог сделать. Только ждать, когда боль заснёт. О птицах и цвете воды перед дождями, о том, как вкусно пить воду из того родника, к которому ходят лесные кошки и слоны, но он далеко, а брать с собой — вода теряет вкус. О том, что Онна очень красива, а что он мог дать ей — дырявую крышу? Сейчас у неё хороший муж, дети, и она давно перестала ходить тропинками, что рядом с его хижиной, он сам попросил её не ходить. О том, что жить так и неплохо, только вот иногда приходит тоска такая, что чёрные волки с края пустыни по сравнению с ней — молочные поросята, но кто знает, может, тоска вовсе не из-за Онны, а приходит сама по себе.
Говоря, скосил глаза на свое плечо, болевшее так сильно, что даже удивился, не увидев на нем раскрытого ножом черного рта раны. На всякий случай втер себе в кожу остатки травяного отвара. И, не смолкая, мыслями, отдельными от слов, понял — её рана заживёт и перестанет болеть, а его плечо — ему навсегда. Потому что он делал это с ней. У неё есть свои неуходящие боли, некоторые он увидел, не поняв. Может быть, раз он вмешался в её судьбу, теперь её непонятые боли будут и его тоже. Так бывает у мужчины и женщины, когда они вместе ложатся, срастаясь телами и душами. Но мастер Акут не ляжет с ней, она молода и как дочка. И еще потому, что там, в её болях, он видел лицо мужчины, с глазами серыми, как утренняя речная вода. Молодой. Болит в ней. Ну что же…
Замолчал, увидев, как шевельнулась ткань, неплотно брошенная на голову. Как и обещано было ей — день прошёл, и ягоды в крови умирают. Развязать нельзя, нужно наоборот затянуть веревки покрепче, чтоб не вырвалась. Но зато она сможет покричать, пошевелить пальцами, разгоняя застывшую кровь в жилах, повернуть голову. И сможет закрыть, наконец, свои пылающие лесным пожаром глаза. Если захочет.
Старший брат приносил домой книжки, растрёпанные и затёртые. Посёлок маленький, и библиотека в нём не работала — сильно пила библиотекарша. Закуток в конце коридора за клубным спортзалом с дверями, замазанными голубой краской, был не для посетителей, а для того, чтоб тётка Евдуся могла принести в дерматиновой чёрной сумке бутылку прозрачного самогона и до конца дня выпить её почти всю. Двери закрывала на щеколду, и несколько раз мужики ломали фанеру, добродушно посмеиваясь, когда она засыпала в углу под столом. У Евдуси погиб муж, уехал на заработки на нефтяные платформы и утонул. Но не на промысле, а почему-то на прогулочном катере в северном порту. Попал между бортом и причалом, его и раздавило.
Тетка Евдуся не успела забеременеть, а замуж вышла уже в том возрасте, когда в посёлке жалели и считали перестарком. Были после до неё охотники, но она горевала, как положено. А потом один из кавалеров всё и высказал. Покачиваясь, налегая на серый штакетник, орал про то, что всё у ней там ссохлось и не зря Димон от неё через полгода утёк и, хоть перед смертью, да, видать, пожил: на белом пароходе да с девками.
Евдуся взяла у соседки самогонный аппарат, небольшой, самодельный. После выкупила. С участковым имела беседу, но не продавала же, гнала помаленьку и пила только сама. Выходила по утрам, высокая и сухая, с резкими кругами вокруг чёрных глаз, и шла, будто по льду. Закрывалась в библиотеке. Не трогали её.
В школьной библиотеке только Тургенев и Толстой. А Ладе хотелось интересного. И не про любовь, а вот приключений всяких. У брата друг жил в городе, брат ездил в гости — на дискотеку сходить, с городскими. Возвращался и, на неделю, на две, привозил книги. Когда Лада спросила, почему старые такие, страницы все летят из них, сказал «на даче у Генки». Ещё поспрашивав, Лада поняла, что Генка из шкафа, где стоят с золотыми корешками, не даёт, а трёпаные — пожалуйста. Но с возвратом, потому что надеется продать на барахолке.
Читать приходилось быстро и часто — с середины. Или — сесть рядом с братом и, пока он читает страницу, голову наклонить и читать боком. Были книги почти все сплошь о путешествиях. Даже и странно, не о старых временах, а о том, как сейчас на яхтах и лодках в одиночку океан пересекают, как Тур Хейердал разбил часы о камень и стал жить наподобие древнего человека, вместе с молодой и красивой женой, на острове, а один японец на собачьей упряжке несколько раз путешествовал по крайнему северу, так и пропал где-то в Канаде. Еще про Африку были книжки и про остров Пасхи большой альбом со страшными статуэтками.
Вот в какой книге, не запомнилось, прочитала о том, что пытка была такая — вырезали на веках оконца и с тех пор человек не мог закрыть глаза для сна. Всё видел. Приходилось поверх закрытых глаз набрасывать тряпицу. Лада плакала ночами от жалости к людям, которые умерли давно.
…Лёжа на жёстком полу, она смотрела на звёзды в дыре крыши и была к ним равнодушна. А вот красный цветок огня перед глазами — раскрывался, стягивался и снова раскрывался. Огонь, что сделала она, когда извернулась в полёте, кинула вниз свою ненависть, и та взорвалась внизу. Не жалко, таких, наверное, и надо убивать, но огонь раскрывается перед глазами постоянно, застит звёзды и лохматые листья. И закрывать глаза бесполезно.