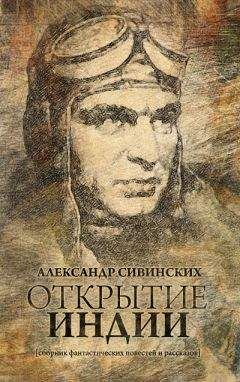– Бывает.
– Обычно кто видит, кривится. Только вы почему-то радуетесь.
– Профессиональный интерес. Жгут тоже придерживайте.
– Эй, док, а эт чё за жуть?..
– Пила, не видите?
– Циркулярка?!
– Да.
– Ёп!
– Зажмурьтесь.
– А как же анастези… ААА!
* * *
– Шесть пальцев! Неужели дождались, док?
– Дождались.
– Ляжку опять шашлычникам отнести?
– Хочешь, сам съешь.
– Не, док, ты точно обнутый. Резал бы по щиколотку.
– Тут принцип, голубчик. Пациент мечтал о политэмиграции. Чтоб журналисты, правозащитники, TV, дом в пригороде Лондона. Значит – по пах. Халтурить грешно.
– А ты праведник. Кстати, я слышал, он говорил, что хочет в Италию.
– Не вижу разницы. Где «Вокс Аваддона»?
– Держи. Чёрт, ну почему обязательно ноги? Они же пахнут!
* * *
Вход в метро «Римская».
– Чё-то рано темнеет сегодня. И вообще на душе хреново. Эй, брат, оставь допить ветерану «Альфы». П’сиб. Тьфу, горечь. Палёная видно. А? Кто, я? Герой, само собой. Как чичей мочить, так вперёд, капитан! А как ногу оторвало, свободен, соси на корточках. Слышь-ка, брат, сирена воет что ли? Или гром? А эт ещё чё? Хо, в метро – и саранча. М-мать, да её тьма! Глянь, братка, а ведь она железная! И рожи человеческие…
Охваченный испугом, я оглянулся: трава пожелтела и высохла там, где упала моя тень.
Ник Кейв
Во мгле, среди дубравы тёмной, где филин ухает в дупле. Где мхи сырые, и гадюка свивает кольца по земле. Где путь лежит в уезд Бобруйский, и путь нелёгкий, непростой. Где в буреломе тигр лохматый берёт прохожих на постой (чтоб разорвать живот клыками и выпить жизненный ихор). Где каждый – зверь, аспид, и птица – бежит, считая за позор стоять во фрунт по стойке смирно, заслышав человечью речь. Где можно славно похмелиться, сумев наутро приберечь живое пламя водки доброй иль браги смрадную бурду, – я, сумрачный и беспощадный, ругаясь яростно, бреду.
Куда влечёт меня ужасный мой рок, как сазана рыбак влечёт на леске в день ненастный, вонзив багор в застывший зрак, как на аркане злой татарин таскал рабынь в гарем мурзы, как беспризорник тырит рьяно с верёвок майки и трусы?
Зачем в руке моей опасный двояковыгнутый предмет? Зачем в душе искус горчащий, а за душой полушки нет? Почто за мной бежали люди, крича: «Постой, дурак, постой!» Почто я бросил им упрямо с прямолинейной простотой: «Я не дурак, я здравый малый! Ума – палата, сметки – пуд!» Почто албанские ребята меня в Тирану не зовут?
Какой кретин уж двадцать строчек резиной тянет этот стих? И чьё, читатель, в этом месте стаккато смеха не затих…ло? (Да, размер нарушить – преступный шаг, его бегу). О Вандерлюст! Когда ж тропинка сведёт меня и бэ Ягу? (Здесь «б» – не б., а просто баба. Старуха. Сиречь ля вилле.) Когда ж наступит Божье Царство не в небесах, а на земле? Кто виноват? Что делать? Даже – зачем не птицы мы, друзья? Зачем бескрылые, заразы, все вы? А, в общем-то, и я?
Вопросов – ворох, а ответов… Ну кот наплакал, грустный кот. А автору – и дела нету. Его сей трабл не гребёт. Он упивается, подонок, своим талантом трепача, не понимая, что читатель вот-вот закроет сгоряча сей текст. И тем себя накажет!
Поелику моя тропа уже выходит на поляну. Поляна – страшна. И скупа строка безвестного поэта, чтоб описать тот дикий страх. Но мне-то в том и дела нету.
Итак, поляна. Как монах на ней чернеет сруб высокий. Окно под бычьим пузырём. Дерновый свод. Над дверью ветер качает мутным фонарём. Вокруг – ограда. Тын из брёвен. На остриях, что вверх торчат, нанизан, бледен и неровен, пустых голов ужасный ряд. Глазницы светятся недобро, а в тускло-золотых зубах курятся угли. Это стража.
Меня увидев, на столбах все черепа с тоской надрывной сказали в голос: «Отрок, стой! Здесь не приют для хулиганов, сюда не пустят на постой подростка, что с рогаткой «Barnett» по лесу шастает впотьмах».
Я усмехнулся и рогатку возвёл. Они вскричали: «Ах!»
…Закончив скорую расправу, я пнул в крапиву черепки и посмотрел на небо браво, как богатырь, из-под руки. Луна плыла в разрывах облак, Стожары, полные Плеяд (здесь звездочётам нужно срочно принять из чаши быстрый яд), стояли в неприличной позе. Большой медведицы ковшом черпал Стрелец трактат Молочный. Я ухмыльнулся – и вошёл. (Надеюсь, каламбур с трактатом замечен вами, господа?) Вошёл в избушку прежде даже, чем мне сказали «можно, да!» в ответ на мой удар по двери.
Внутри имелся крепкий стол, ещё скамья, на ней – матрона, по виду ведьма лет под сто. Ещё какой-то хмырь, похожий на беса в бархатных штанах.
Я вскинул «Barnett», вновь услышал сначала «ой!», – а позже: «ах!».
Старуха – бэ Яга, бесспорно, – увидев карачун хмыря, схватилась лапкой за сухую (здесь слово «грудь» не скажем зря) и впалую грудную клетку и простонала:
– Вражий сын! Почто убил мою скотинку? Почто, доживши до седин, должна я видеть эту сцену, как мой сожитель, мой герой валяется, суча копытцем, с уродливой в виске дырой? За что, о Бафомет проклятый, ты наказал меня сейчас? И в год зачем две тыщи пятый светильник разума угас? Какие тайные колёса, стуча зубчатками венцов, смололи нежное созданье, отправив в юдоль мертвецов? Какие струны дёргал скрытый под маской Зорро кукловод? В какую бурную стремнину поэта чёртова несёт, что он опять лепечет складно, однако не совсем впопад? А как тебе отнюдь не срамно (здесь ради рифмы вставим «гад») бабульку, божий одуванчик лишить игривого зверька! Как поднялась над ним, бесстыдник, твоя жестокая рука?..
Тут я прервал старуху жестом, каким оратор Цицерон на место ставил римских граждан:
– Постой, я удовлетворён. Ты роль сыграла безупречно. Теперь же дале не тяни, не то твою худую шкуру распустит автор на ремни. Корми меня, пои – и в баню веди, как древний миф велит. Тогда, быть может, гость твой поздний таки и соблаговолит сказать, зачем к тебе явился.
Яга (уже без буквы «бе») блеснула глазом страховидным и, бородавку на губе крутя с неистовою силой, провыла:
– Знаю, ты сюда нагрянул с целью непотребной. Луну из божьего гнезда ты мыслишь выбить из рогатки, чтоб сделать чёрную дыру… в холсте небес! Кощунник дерзкий, тебя я в печь сейчас запру! Ведь ты страшнее рок-энд-ролла! Как можно рушить ход светил?!
Здесь автор взял каргу – и шкуру ей на подтяжки распустил.
Устал он слушать вздор ведьмачий в тот час, когда заря вот-вот щербатый лик светила ночи своим сиянием сотрёт. Когда петух, горнист рассвета, прочистив горло, на плетне, готов прогнать чертей из мира к их боссу, дядьке Сатане. Когда минуты утекают сквозь пальцы золотым песком. Когда таджики в третью смену по тем же пальцам молотком колотят, не забыв по-русски российских думцев помянуть. И, наконец, когда поэты готовы всё-таки заснуть.